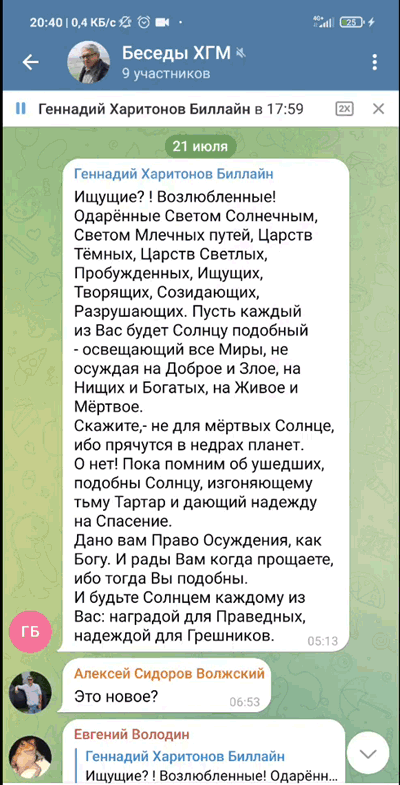ХГМ - Рассказы
Счастье - миниатюры, 05.08.2025 06:51
Со Степкой рассматривали облака — сегодня они скучные, ни на что не похожи.
Надоело просто валяться, подполз к Степке:
— Степка! А ты счастливый? Только честно!
— А ты?
— Я первый спросил! Какое у меня счастье, я еще маленький.
Степка смеется:
— Несчастный?
Я задумался. Ведь сам предложил — всё по-честному.
— По-разному…
— Это как? — Степка не смеется, Степка слушает.
— Мамка с папкой поругают — какое тут счастье. К бабушке сбегу — у нее счастье.
Молчим.
— А ты, Степка, куда сбегаешь? За счастьем…
— К тебе бегу, — несерьезный Степка вскочил, схватил меня в охапку, бежит к речке, орет — кругом счастье!
СкрытьСон - миниатюры, 04.08.2025 13:07
Сегодня ночью во сне я вновь оказался на дороге, ведущей в небытие. По этой дороге идут умершие.
Я раньше рассказывал, что на ней стали ставить торговые палатки в ожидании большого потока людей.
Сегодня я увидел, что многие палатки стали разбирать. Я здорово обрадовался — поток людей уменьшится.
На месте этих палаток идёт большущая стройка. Я очень надеюсь, что она не связана с торгами.
Я раньше и сегодня подходил к продавцам, уж очень хотелось узнать, что может купить умерший в этих палатках.
Возможность покупать я связал с молитвами об умерших.
Но мне сказали, что я не могу стать покупателем, я на этой дороге лишь любопытный, и стоит выяснить, что и кто допустил меня сюда.
Несколько продавцов окружили меня явно для разборок. Тут появились животные: собаки, кошки, неведомые мне зверюшки, прилетели птицы. Они встали между мной и продавцами.
«Во оно как», — услышал я, и все стали расходиться. Один продавец, с акцентом, крикнул: «Всё лучшее у меня возьми».
Я кричу: «А что у тебя?»
— Ай, хитрец, будешь на дороге, всё отдам. Ступай с миром.
Я проснулся.
Лес, овраг, заросший одуванчиками. На краю оврага сидит маленькая девочка. В руках одуванчик, она отрывает парашютики — гадает.
— Я никогда не видел, чтобы так гадали.
Она смеётся: «Одуванчики разные, вот до этого у него было 192 семечки. А ведь здорово, правда?»
— Ты что такой серьезный?
— Семечки? — спрашиваю.
— Парашютики, ты же сам так сказал.
— Я не говорил…
— Говорил. Никакой разницы, вслух или нет. Всё равно слышно.
Ромашку оборвали, да не поверили ей.
Одуванчик, во, смотри сколько, и погадала и рассадила.
Просыпайся, у тебя кошка в окно просится.
Просыпаюсь, действительно, кошка сидит на подоконнике, ждёт, когда впущу. Открываю, она заходит, стучит каблучками красных сапожек. За ней кот в черных сапогах, снимает котелок, кланяется: «Разрешите войти».
Кот увеличился до моих размеров, в смокинге, галстук. Из кармашка уголок белого платка. Я всматриваюсь, кот усмехнулся: «Это платок, а вы ожидали увидеть куриную кость?»
Я отвернулся (неудобно как-то получилось), увидел кошку, она занялась сапожками, язычком облизывает их.
Кот смотрит на меня с усмешкой, говорит с иронией: «Несовместимо? Юноша, я многое видел за свою жизнь. Несовместимость выдумана, поверьте мне. А прожил я много — вечность».
Подходит к кухонному столу (практически всё, поверьте, даже космического масштаба, решается на кухне), достает из кармашка огромную книгу. С одного края опаленная, да сильно. Много листочков вложены в ней.
— Да, да, у нее нелёгкая судьба. Ее пытались и сжечь, каждый норовит вырвать. И топили ее, и ножки шатающихся тронов подпирали…
— Жалуются на вас. Гуляете по мирам, мыслите не по стандартам.
Что скажете?
— Да я не знаю. Я же не специально.
— Специально ни у кого не получается. Всё должно естественным.
— Тогда, тогда у меня всё естественно. — Стараюсь говорить тихо, серьезно.
Кот смотрит на меня, перелистывает странички книги, листочки, когда-то кем-то вырванные, аккуратно вкладывает, согласно нумерации.
— Документы есть (ударение на «у»)?
— Паспорт.
— Показывайте.
Я достаю паспорт, даже не паспорт, а какую-то призмочку. Внутри огонек, а сама как из хрусталя, все грани из таких же призм. И в каждой огонек живой.
Кот берет мой документ в лапы, рассматривает: «Да, возраст, вы старше меня будете. Почему же не предъявляете? И вопросов бы не было».
— И ответов не было бы, — отвечаю.
— Согласен. Разрешите откланяться.
И кошке: «Пошли».
— Нет, я с ним. Остаюсь.
— Тогда сапожки-то сними.
Я тут же попадаю на Полянку. Девочка подходит к Мужчине и Женщине: «А с котёнком можно? Если нет, можно я тогда уйду?»
— А если нельзя, правда уйдешь? — спрашивает Мужчина.
— Уйду, даже не просите, всё равно уйду.
Женщина смеётся: «Конечно можно».
Девчушка убегает радостно.
Я беру друзей за руки: «Даже спасибо не сказала…»
Друзья смеются, приподнимают за руки, раскачивают и отпускают руки.
Я лечу. Огни, огни, я всматриваюсь в них — звёздочки.
И слышу зов: «Домой!»
СкрытьДругая Проба пера - стихи, 21.02.2025 19:55
Времён река, где сумрак плетью вьётся,
Судьба-змея то плачет, то смеётся.
И в шепоте минут, что мир терзают гордо,
Забвенье с памятью ведут свой танец колкий.
Меж сном и правдой, хрупкой и бессильной,
Душа танцует в пустоте могильной.
Миры мерцают, отблеск свой теряя,
В безмолвии паденья, не сверкая.
Внутри души горит познанья пламя,
Меж берегами жизни, меж мирами.
Жизнь, смерть — спираль, навеки сплетены туго,
И полёт миров — завеса для супруга.
В лучах комет, в падении безмерном,
Миры качнулись, истины открыв дверцу.
И дух взлетает, фениксом восстав вновь,
Над хаосом вселенным, являя радость и любовь.
СкрытьПроба пера - стихи, 21.02.2025 19:54
В пучине лет, где тьма, как саван, пала,
Судьбы весы качнулись величаво.
В биении дней, что миру дарит жало,
Тень со светом спят, и спор их — лукаво.
Меж явью зыбкой и тюрьмой забвенья,
Душа блуждает в безграничном беге.
Весы плывут, теряя отраженья,
В паденье звезд, в молчащем, мертвом снеге.
В ударе сердца — истины зерно,
В небесном своде, меж краями мира.
Жизнь, смерть — виток, навеки сплетено,
Весов полет, где вечность — лишь куртина.
В сиянье звезд, в паденье грозном, диком,
Весы качнулись, тайны обнажая.
И дух взмывает, словно феникс ликом,
Над хаосом миров, восторг являя.
СкрытьЗавтра новый день - миниатюры, 29.12.2024 06:44
Пустыня, страшная жара, я стою за прилавком киоска. В киоске много много различных напитков.
На прилавке большой ценник — енот держит плакатик — просто так.
Мимо проходят люди, много людей.
И, вот разговоры:
— Прикольный мираж
— На всём зарабатывают
— Не ходи, говорят же — мираж
— А в чем прикол?
— Гуманоиды
— Уроды
…
Все проходят мимо.
Я кричу, зову друзей, их имена
Все проходят мимо.
Слышу голос из толпы: — Ты что там один, иди к нам
Я не закрываю киоск, я иду домой, на Полянку. Рядом, прижавшись к ноге, идёт енот.
Завтра новый день. Я буду снова стоять за прилавком. Я буду надеяться…
СкрытьГвоздь - миниатюры, 12.11.2024 05:13
Я помню как родился, меня ковал кузнец.
Рядом бегал мальчишка. Он тоже хотел кузнецом.
Но война..
Пришел пожар, кузница сгорела.
Народ в трепье нашел меня.
Кочевал я долго.
Мои соседи — гвозди, проволоки кусок,обрывки газет и даже денег.
Однажды был врачом: удалял занозу у девчонки.
Пролежал на прилавке я не долго. Мужичок в цилиндре смахнул меня в карман.
В кармане труха из семечек, кусочки сахара, завёрнутые в билетик.
Был обматерен, когда вынимаясь из кармана уколол я мужичка.
И он во злости выкинул меня.
Познакомился с мышами, даже крыса пробовала на вкус.
Живой, немного ржавчиной покрылся, но всё равно я пригодился.
Нашел меня мальчишка.
Я стал ему карандашом.
Корабли, собачки, солнышко и даже ругательское слово.
Всё это смог я нарисовать.
Вы скажите — мальчишка.
Не буду спорить, давайте скажем — вместе.
Скажу вам честно — сильно затупился.
Дерево я брал легко, но стены…
Теперь прибит к стене. Не как все — гораздо ниже.
Приходит малышня, одежды скинув на меня.
Гвозди, что повыше, меняются часто, гнутся.
Шубы, пальто, им тяжело.
Мне полегче.
От детских одежд я заблистал, ржавчина пропала.
И вот очередной картуз,
И далёкий смех.
Я живу в театре и часто слышу
«А теперь гвоздь программы!»
Не про меня,
на мне картуз.
Детский.
Скрыть2025.03.13
— Зашёл на огонёк.
— Что? Куда ты зашёл?
— Это выражение такое. Оно ещё не скоро будет.
— Красиво, а ещё? Которое не скоро…
Гость сорвал яблоко, надкусывает, причмокивает. Слово «гость» тоже из будущего. Но мы-то его знаем.
— Муж и жена одна…
— Что одна?
— Неважно.
— Как здорово — муж и жена одна, неважно.
Гость усмехнулся.
— А почему ты ешь плоды с этого дерева? Их нельзя есть.
— Кто сказал? На дереве нет указателей.
— Указателей? Это тоже от «не скоро»?
— У «не скоро» много интересного.
— Они вкусные?
— Горькие. Но есть можно.
Скрыть2025.02.21 - Весы Судьбы
В пучине лет, где тьма, как саван, пала,
Судьбы весы качнулись величаво.
В биении дней, что миру дарит жало,
Тень со светом спят, и спор их — лукаво.
Меж явью зыбкой и тюрьмой забвенья,
Душа блуждает в безграничном беге.
Весы плывут, теряя отраженья,
В паденье звезд, в молчащем, мертвом снеге.
В ударе сердца — истины зерно,
В небесном своде, меж краями мира.
Жизнь, смерть — виток, навеки сплетено,
Весов полет, где вечность — лишь картина.
В сиянье звезд, в паденье грозном, диком,
Весы качнулись, тайны обнажая.
И дух взмывает, словно феникс ликом,
Над хаосом миров, восторг являя.
Времён река, где сумрак плетью вьётся,
Судьба-змея то плачет, то смеётся.
И в шёпоте минут, что мир терзают гордо,
Забвенье с памятью ведут свой танец колкий.
Меж сном и правдой, хрупкой и бессильной,
Душа танцует в пустоте могильной.
Миры мерцают, отблеск свой теряя,
В безмолвии паденья не сверкая.
Внутри души горит познанья пламя,
Меж берегами жизни, меж мирами.
Жизнь, смерть — спираль, навеки сплетены туго,
И полёт миров — завеса для супругов.
В лучах комет, в падении безмерном,
Миры качнулись, истины открыв дверцу.
И дух взлетает, фениксом восстав вновь,
Над хаосом вселенным, являя радость и любовь.
Скрыть2024.12.27 - Чтобы душа не уснула - Стихотворение
— Скажи, почему ты приходишь болью?
— Уберегаю от боли духовной
— Скажи, что ты чувствуешь, когда заволакиваешь небо?
— Я прячу небеса от боли земной
— Скажи, что чувствуешь, когда закрываешь солнце?
— Я его укрываю, чтобы отдохнуло
— Скажи, кто ты, у тебя есть имя?
— У много имён, одно из них — твое. Я тот, кто играет на струнах твоей души
— Но зачем?
— Чтобы душа не уснула
СкрытьРазговор с батюшкой - миниатюры, 03.02.2024 19:21
Мне сегодня приснился батюшка. Он спросил строго: добро или зло творишь ты?
Я честно ответил: я не знаю, батюшка.
Батюшка обошёл вокруг меня: если я скажу что добро творишь, уверуешь?
Я ответил: прости, уверую, но буду всё равно сомневаться.
Почему? — батюшка смотрит мне прямо в глаза.
— По людям смотрю. Ругаются, спорят, обвиняют.
— Им более веришь, чем мне.
— Прости, батюшка, я не мерил.
— А если скажу, что зло творишь, поверишь?
— Поверю, батюшка. Больше поверю. Даже сомневаться не стану.
— По людям смотришь?
— Нет, батюшка, по себе смотрю. Сомнения мои, что болячки.
— Одно худое слово и в попять?
— Прости, батюшка, моему сомнению не засохнуть на корню.
— Слаб ты в вере своей. Худое слово тебе дороже.
— Оно же не просто так сказано.
— Непросто. Но чтобы найти самородок, сколько руды пройдёт через тебя.
— Батюшка, скажи, доброе ли худое?
— Отрок! Не хочешь ли ты мне одну из сторон выбрать?
— Нет, просто, да я не знаю, просто.
— Нет гладких дорог в Дом Господний. И в Рай нет. В гору тяжело идти.
— Спасибо, батюшка.
— Сомнение тобой говорит. Начни сам отвечать. Я к тебе пришёл, а не к твоим печалям.
СкрытьПешка - миниатюры, 28.01.2024 19:30
Я сегодня во сне играл в шахматы с шахматным Королём. Болтали о жизни и Король оказывается очень сильно завидует Королеве, точнее её свободе. Он рассказывал так печально, что я, чтобы поддержать его, открыл ему «страшную тайну», что Королева при всём своём желании не может ходить «конём». Он мне не поверил и сказал, что я совсем не разбираюсь в женщинах.
Тут уже я огорчился. И на Короля, что не поверил мне, и на себя, потому что поверил Королю.
Я шёл по длинному коридору, линолеум что доска шахматная. Навстречу припрыгивая и чему-то радуясь бежала девочка.
Она «врезалась» в меня, рассмеялась и протянула руку:
— Пешка.
Я растерялся, отвечаю с обидой:
— Почему пешка? Просто я…
— Я Пешка, а тебя, ой, вас, я не знаю. Давай знакомиться.
Немного поболтав мы взялись за руки и пошли мерить клетки — шахматы линолеума.
Поболтали о жизни, просто так, потом снова о жизни и снова просто обо всём.
Я же взрослый, старался быть серьёзным, спросила почему я бука. Я ответил честно — я давно не был маленьким.
— А вчера? Вчера ты, ой вы, тоже был большим? Или поменьше?
Я рассмеялся и спросил:
— А кем ты будешь взрослой?
— Это будет завтра, я ещё не придумала. Вот вот всем хочу. Только не Королём.
Как хорошо, что я не догадался сказать Королю про Пешку и её свободу.
СкрытьПолянка - мистика, 07.01.2024 06:21
В заставке на полянке идёт снег.
И у меня сегодня на нашей, (уже не могу сказать моя, — столько ребятишек) полянке мы ляпили снеговиков.
Снеговики такие же маленькие как и мы, «разбежались» по всей полянке. Решили собрать всех вместе, да не получается.
Девочка, (да, да, она называла одно из чудовищ папой, с такой нежностью, всем бы так папам) предложила создать (её слово) ещё много много снеговиков. И пусть все держатся за руки.
Мы увлеклись. Здорово! К нам на помощь пришли Мужчина и Женщина.
Я уверен, что все дети знали их, и давно давно — старые друзья.
Они называли Мужчину и Женщину по именам. Много имён и Мужчина и Женщина откликались на них.
Мальчик, он позвал Мужчину именем Рафа, спросил меня, почему я не зову их по имени. А я закричал громко, будто что-то отгоняя от себя кого-то «я не знаю, я их просто люблю, они мои друзья». Много имён, и все поместились во мне.
Я рассматривал имена и вдруг понял, что я стар, очень стар, раз знаю столько имён.
Я проснулся, ведь на полянке нет стариков.
А сггнеговичков много много. Мне кажется, что нельзя дойти до края полянки. Детишки одевали снеговиков в шапочки, шарфики, курточки… Да приговаривали как взрослые: не капризничай, солнышко вон какое, начнёшь таять, что я с тобой буду делать.
Взрослеют
СкрытьСеанс - мистика, 07.01.2024 06:18
Сегодня ночью был «контакт», я зову его сеанс.
Всё как обычно: Переводчик с поднятыми руками, Ольга Васильева, Олег Соколов, Бакалин Андрей, Геннадий Белимов, Глеб — сын Ольги, Рита, Микки (собака друг Ольги), Шурик (мой одноглазый друг-кот).
Ночь длинна, разговоры что ручеёк: нет перекатов-споров. Нет магнитофона с кассетами, ведь с ними одна заморока: то сотрётся, то наложатся старые записи на новые — вот и телефон испорченный -).
Говорили обо всём. Конечно были вопросы, но не допросы.
Никто не спрашивал ушедших: как вы там после смерти. Не было её сейчас. Не было. А если бы и пришла, присела бы рядом, поболтать.
Первые, Краски, Предохранители, Монахи, Воины со всех сторон пришли без оружия, несколько старцев (говорят, что они уже были старцами во времена творения Мира, знали Бога и Христа), — множество пришли.
Пришла Любовь, маленькая хрупкая девчушка. К ней на колени залезла Ольгина кошка. Девчушка постоянно куда-то убегала. И все радовались её приходам/уходам — к кому-то пришла Любовь. Для Любви нет границ, нет До и После.
Не было счёта, — была Полянка и Сеанс.
Сидели костра. Гена Белимов достал гитару. Много песен.
Мы лежали на полянке, рассматривали звёзды. Глеб рассказывал о их жизни. Про каждую звёздочку.
Моя мечта — пусть правдой станет.
Не на полянке, пусть на стульях.
Чтоб живые собрались на контакт-беседу.
Пусть будет счёт, пусть, но не менее трёхзначный, как у Сергея Иванова.
Ещё хочу я вспомнить его сеанс, те почти три часа, что стали тайной для меня.
Хочу, ведь стулья не помеха, бежать к полянке.
Только вы со стульев тоже встаньте
СкрытьСферы - мистика, 07.01.2024 06:16
Читал я Книгу, охраняемую монахами.
Теперь пытаюсь пересказать вам.
Но!
Память у меня — высший класс: мыл фикус маму на коне -))
Многие Тверди были Сферами. И Сферы разделяли эфиры между двумя Звёздами.
И каждая считала себя центром, не уступая другой. И были они причиной хаоса, разрывающей Тверди. Освобождённые Эфиры стали стороной Хаоса.
Разгневались боги, отослали Непримиримых из дома своего на окраины Миров.
По множеству времени забылись Звёзды со спутниками своими. И Звёзды, не зная мерила, разделяли Сферы. Сферы непокорные Звёздам отдавались в откуп Смерти, ибо на окраинах её обитель.
Пришли Разумные, пришедшие от средины и других окраин, в поисках мира. И здесь, не найдя его, начали создавать свой Мир.
Разделили Непримиримых расстоянием. И Звезда с Звездой стали разделимы. Каждая из них увидела себя в другой. Но множественность эфиров разделяло их.
Каждая из Сфер выбрала Звезду и последовала за ней. И не было Сфер свободных.
Разумные решили посеять жизнь в Сферах. Стали разделять Тверди от Вод эфирных. И разделили Тверди подобно разделению звёзд. Одна твердь Землёю, другая Покрывалом Тверди земной. Звезда очагом для каждой из Сфер: земная Твердь для каждой Твари земной, распростёртая Твердь Небом для земного и домом для Эфиров, что стали подобны Разумным.
И вновь пробудились битвы, хотели Эфиры властвовать над Земными.
Чтобы остановить битвы, Разумные сделали равными и Земное и Небесное — все подобны Разумным. И каждому из них дана воля и право назвать имена.
Что на небе, что на земле — каждый обучен в чтении книги жизни. И каждому дано право в начертании строк. И каждому дано знание на запрет удаления строк — ни своих ни чужих.
Следы войн вмешались в мир разделением, разделилось Единое.
Для Земных Разумные дали секреты пищи и злаков. Для Небесных дали право видеть потоки эфиров и могущество их.
Многие Небесные, что были силами Эфиров, отяготились земною жизнью и стали входить в тела земные как в обитель свою. Поселялись семьями в телах земных, обретая облик сил Земных потоками эфиров внутренних. Земное пожинает эфиры, живущие в них, Эфиры пожинают тело, что дом свой. И берегут его, что дом свой.
И сказали Разумные — Хорошо.
Но знали они и другие Слова
И знали Разумные, что ищут их Войны.
Тогда решили покинуть Мир созданный, уйти в Миры безжизненные — в пустоте нет воинов.
Сферы — Живое, несущее в себе всё. Движение
живого внутри независимо от внешнего, что не в сфере.
Жизнь самодостаточна. Но не имеющая права развития. Пуста жизнь без общения с Эфирами и Сферами иными. Но ценна для Сохранения и Великого сна. Сфера — посев её возрождает Жизнь в Пустотах Ранних и Последних.
По истечении Жизни Мира Вселенных приходит Великий Сон. Жизнь Мира Вселенных подобна Сфере. Замкнута от сил внешних. Не имеет сил пробуждённых в себе.
Ничто не нарушит покой Великой Сферы в эпохах Великого Сна. Только Творцы имеют Силы Пробуждения.
Есть Сферы Земные, что зовут Планетами. Есть Сферы Небесные, что сотканы из Эфиров. Есть Сферы, что сотканы Эфирами и Земными.
Сферы Живые общительны, — нет среди них тайн.
Есть Сферы малые — твари земные, есть Сферы небесные — менталы, есть Сферы Эфирные — силы Жизни. Есть Проявленные, есть Иные, есть Пленники, есть Художники — дети Творцов. Есть Воины, есть Миротворцы. Есть Судии и Хранители. Множество есть.
И каждые из них Сферы Малые, не имеющие в себе Сфер иных. И Мера Сфер из Сфер внутренних. Но, если в Сфере Живой Сфера Мёртвая, без общения, — отягощена материей. Материей вида любого — ибо мера Жизнью, а ни чем иным.
СкрытьВрунишка - миниатюры, 06.01.2024 08:03
Мы со Стёпкой играли в игру «поверни». Мы выходили на перекрёсток и должны были повернуть куда поедет машина.
Он всегда выигрывал. Я считал его волшебником — машины всегда поворачивали куда он хочет.
А потом он раскрыл страшную тайну — поворотники.
Иногда не хочется знать многое многое. Из волшебника Стёпка стал врунишкой.
СкрытьСилы небесные - миниатюры, 28.10.2023 08:32
Силы небесные, силы внутренние и внешние,
Воссоединитесь во единое — жизнь сотворяющее!
Единое — воскреси веру любовью в надеждах наших!
Светом всех Миров, войди в обители Духа и чертоги телесные,
Для рождения душ новых и упокоения покинувших нас!
Да пребудет сила здоровьем Души и исцелением тела!
Усмири гнев и жадность в нас — врагов наших!
Освети светом ярым дороги наши,
И пусть все пути ведут в царствие,
Где буйство Духа всколыхнёт воды живые,
Что прольются полными реками, утоляющие жажду путнику.
Где пройдёт он, освящённый силою природ и богов,
Там и будет тропа, что станет дорогой для многих!
Великое — дай сил не сойти с дорог.
Дай путников, — друзей разделяющих беды и счастье,
Врагов, чтобы усмирить гнев и ненависть!
Сотвори Жизнь во мне длиннее дорог!
Да будет так!
Благослови идущих в мир Света — рождённых!
СкрытьСолнышко - миниатюры, 18.06.2022 14:07
На закате дня
Попросил я солнышко
В ладошках спрятаться моих.
Попросил я солнышко
Подарить тепло.
Несу его в ладошках к мамочке моей,
Попросил я солнышко маму отогреть,
От холодных неудач, от сердечной боли.
К папе солнышко несу.
Может папа улыбнётся и станет в доме веселей.
Приду к сестрёнке и братишке,
чтоб быстрее подросли.
Бабушка, родная!
Угадай, что у меня в ладошках?
Солнышко моё -
Обнимает бабушка.
7 июня 1972.
Скрыть2023.05.12 - Пробуждение.
Вздрогнул Мир, смешались тени неведомых героев.
Без прошлого? Настоящего? Нет времени, нет.
Он старался зацепиться за любое движение, любую мысль. И только уверенность (было, было, это не первое пробуждение, не первое), рождённая из надежд, заставляла его искать. Всполохи тьмы ткали реальность, сотканную из той же тьмы. Как различал он?
Он не знал, сколько прожил пробуждений, не мог вспомнить, что происходило до и после них. Но само пробуждение, с каждым разом, маленькими стёжками создавало ткань его мироздания. Он всматривался во тьму, и в каждом её движении, в каждой складке теней видел жизнь. Жизнь, сейчас чуждую для него.
Почему же «сейчас», почему? Время! Непонятное чувство времени начало одолевать его. Мучительно, больно. Боль рисовала ему странные картины: между тенями появилось нечто, не занятое ими. Размытые границы теней и пустоты. Он хотел увидеть, что там — в пустоте, за тенями…
За тенями? Новое чувство испугало — глубиной, объёмом.
Множественные неудачные попытки заглянуть за тени, отделило его от них. Они другие. Они не я. Кто я? Кто?
Тени не давали ответ. Он всматривался в каждую из них. И только один вопрос — кто Я?
Однажды, спросил по-другому: вы знаете меня?
Привычное молчание взбесило его — в порыве пока неведомой ему ярости кинулся разметать тени. Случилось страшное — он оказался в совершенной пустоте: яркой, без привычных складок.
— Зачем? Что натворил я? Как же…
И снова ярость. Ярость, направленная на себя. Против себя.
Пустота расступилась слабо проявленными границами. Он, боясь, что не успеет, спрятался в глубине новой тени. Тень укутала, прикрыла наготу мыслей.
Пробуждения бросали в обновлённый, для него страшный: мир пустоты — мир света. Множественные тени не могли заполнить Мир. Свет стал преобладать и властвовать. Терялась плотность, обилие полутеней ткали неповторимые узоры. Он научился различать тени, каждая из них стала индивидуальностью. Различие движений, различие манеры проявления в яркости пустоты увлекли его, и острота вопроса о себе всё реже наносила раны.
Его очаровывала пустота. Твёрдость яркости смягчалась, и, вскоре, она перестала пробуждать в нём страх, нарядившись привычными для него складками теней. И даже каждая складка отличалась от других — проявлением цвета, ощущением глубины.
Изменились тени — они украшали себя пустотой, точнее её атрибутами: мягкостью, многообразием цветов.
Красота пленила его. С радостью узнавал свет, тени. Но в воспоминаниях постоянно терялся в их множестве. Тогда каждому предмету памяти придумал имя. Процесс создания имени возбуждал фантазии, но он старался не нарушать тайные покровы всё более поглощающей игры.
Тень, укрывшая его, стала домом. Всё реже и реже покидал дом. И однажды, неожиданно для себя, не смог вспомнить последнее пробуждение. В бездне времён и событий он впервые потерял привычную точку отсчёта. Пропажа обнаружилась во время очередного желания прогуляться.
Он в растерянности спрятался в одном из дальних, ещё не изученных, уголках тени. «Незнакомство» возбудило интерес: острая боль — кто я? — разворошила забытую рану. Уют дома приглушил боль, но она прочно вселилась и стала навязчивой соседкой, постоянно нудящей и требующей внимания.
В воспоминаниях, раздумий, в переборе событий случилась другая беда — он не видел себя. Насильственные фантазии в попытках исправить, создавали фантомы. Фантомы, в отличие от теней и пустот, не имели устойчивых форм. Но что-то объединяло, для него непонятное, но легко узнаваемое.
Новый предмет памяти потребовал Имя.
Скрыть2023.05.08 - Завтра я иду к Волшебнику.
Он превращает неисполненные мечты в птиц.
Я всматривался в голубую бездну её глаз. Я видел там Бога, плачущего Бога.
Меня не было два месяца. Два месяца на Земле и два месяца здесь, это совершенно разное время. Там, на Земле, я мог заняться чем угодно, лишь бы потерять счёт времени. Я мог просто уйти в запой, проспать или заняться чем и как угодно, благо на Земле всегда найдутся друзья и, профессиональные убийцы твоего времени.
Здесь я проживал каждый миг, каждое мгновение, превращённое в бесконечность. Два месяца, ни больше, ни меньше. Два месяца я не мог уйти от тела. Я боялся оставить его, я ещё надеялся о Возвращении. Я крутился вокруг него, я оберегал его, я верил в него и видел себя в нём. Время превратилось в бесконечную череду вечных мгновений, в рассыпанное кем-то зёрнышки. Я пытался остановить Время, я стал прятать зёрнышки-мгновения. Я боролся — обманом, мольбами, надеждами, мечтами. Мне казалось, что если я вспомню, как умирал, то смог бы всё исправить. Такой пустяк, изменить то мгновение, разделяющее Живое от Неживого. Мгновение — до и после.
Одна бабка, — толи ясновидящая, толи я так хотел, чтобы она меня видела, — крестилась сквозь слёзы, читая известную только ей и Богу молитву. Она приходила часто, и мне стало непонятно, почему она так делает: она боится меня, но всё равно приходит снова и снова. Я стал украдкой подгладывать за ней и увидел, что рядом была ещё могилка, могилка её дочери.
Я помню тот день. День, когда я научился видеть. Видеть не только тело своё, но и могилки других тел.
Она приходила к дочери. Ко мне никто не приходил. Никто, что огорчило меня с такой силой, что и я не захотел.
Вы знаете, я испугался своего тела, нет не тела конечно, а того, что тело могло напомнить о моей жизни. Если никто не приходит…
Я помню тот день, когда я оставил тело в покое. Когда я научился видеть.
Я стал встречать вновь прибывших. Встречал подобных себе, привязанных к своей могилке. Встречал «бегающих», не верующих в свою смерть. Они старались как можно быстрее покинуть всё, что могло напомнить им о смерти. Но, рано или поздно, всё равно возвращались, чтобы поглядеть, не приходи ли кто к ним в гости.
Были и те, кто принимал смерть. Они пытались поговорить с Живыми, пытались успокоить, как-то объясниться, проститься.
Но Живые были заняты горем, несчастьем, слезами, похоронными хлопотами.
Первое время я пытался помочь, докричаться. Думая что… на правах старожила…
Я так и не смог привыкнуть, отстраниться равнодушием. И я радовался, что никто не оплакивает меня — через семь лет, поверив в смерть, переживаешь сильнее.
Скрыть2022.07.21 - Стихотворение из сна.
Ищущие? ! Возлюбленные! Одарённые Светом Солнечным, Светом Млечных путей, Царств Тёмных, Царств Светлых, Пробуждённых, Ищущих, Творящих, Созидающих, Разрушающих. Пусть каждый из Вас будет Солнцу подобный — освещающий все Миры, не осуждая на Доброе и Злое, на Нищих и Богатых, на Живое и Мёртвое.
Скажите,— не для мёртвых Солнце, ибо прячутся в недрах планет.
О нет! Пока помним об ушедших, подобны Солнцу, изгоняющему тьму Тартар и дающий надежду на Спасение.
Дано вам Право Осуждения, как Богу. И рады Вам когда прощаете, ибо тогда Вы подобны.
И будьте Солнцем каждому из Вас: наградой для Праведных, надеждой для Грешников
СкрытьИдол - повести, 14.02.2022 17:23
Глава 1.
Стоят три горы: Седая, Лысая, Лесная. Окружили деревню плотным кольцом. Только коридор узкий к морю.
Седая — профиль строгий, вся в обрывах, крутых склонах. Старожилы гору почитают: когда-то старый воин прилёг отдохнуть, да и уснул окаменев. Поначалу весны заворошится обвалами, разливами. Соберутся старики: придут к горе с подарками, тихо положат у основания. Добавят к дарам травы сонной.
Гора Лысая с редкими деревцами, кустами. Утром зайдёт птичьим гоготом, в полдень зверьём завоет, к вечеру туманом накроется. Непостоянная, капризная: то грязью зальёт, то родником чистым. Ни дарами, ни уговорами сладу нет с «пустышкой».
Лесная богата красотой вековых сосен. Поросль не уступает ветеранам, растёт буйно. Грибы, ягоды, дичь — всем одарит гора. По весне нежна солнышком утренним, всеми любима, — и стар и млад не боятся Лесной.
Седая сердится, Лысая потопами мучает — просят дары постоянно. Лесная тиха, безобидна, подкупа не требует, — слово доброе — вся потрата.
Деревня кольцом строена, парадными стенами к центральной площади. Кто побогаче, обсыпал двор земляным валом от талых вод. Прорвёт плотину, стоит вода дольше: рубятся каналы в валу. Соседний двор одним забором огорожен, топит сосед соседа — какая тут дружба. Накалится обстановка до «гроз и молний», идут к старейшине. Старейшина избирается редко, но метко. Самого смекалистого, хитрого, на руку чистого. Богатый не «заволнуется», бедняку «ума маловато», потому мужика с хозяйством крепким, да семейного.
Оттягивает старейшина время, ждёт изменений в природе. В назначенный им день, соберёт с каждого двора ходока с дарами — дань Седой и Лысой. Кто знает, может берут горы «взяток», может другое, но через неделю проходят капризы.
Николы двор стоит на пригорке, воды не боится. Никола, конечно, не жаден, а всё ж расходы лишние. Ворчит, огрызается: супротив народа никак нельзя — отдашь кровное.
По северной стороне площади стоят лотки базарные, сараи пристроенные.
В центре площади столп каменный, видно старым воином стрела в землю воткнута. Камень рядом громадный: ветрами да жителями верх выглажен. Жертвенник. На восходе солнца приносят новорождённых, кладут на стол каменный. С первым лучом солнца на камне даётся имя дитятке. На закате, с последним уходящим светом, забирается имя у покойного. Рождение и Смерть — всё камень принимает. Центр деревни есть и центр Мира для местных. Жертвенник не бывает пустым. Цветы, снедь даже в жестокие голода. Только тварь животная иль птица прилётная пользуется приношением.
Не припомнят старожилы времена безветрия у столпа. По силе неутихающего ветра гадают о погоде, урожае. Подвязывают к столпу пелены от новорождённых. Трепещутся они на ветру, не снимаются до году. Если сорвало, унесло ветром, всей деревней ищут пелену, — нашлась, — всей деревней празднуют. Не нашли: смерть в дом пришла за дитятком.
Никола мужик жилистый, болезни стороной обходят. Жена не уступает мужу: стройна, высока, сильна. Хозяйство крепко держат, сами не голодают и на базар есть что снести. Двор убранный, в сенях занавески, на окнах створы резные. Венчает дом петушок на крыше: слюдой да краской на солнце блестит гордо.
Одна беда — бездетные. Народ поговаривает, мол, с чертями водятся, потому и приход есть, да детей на богатство променяли. Начнёт кто сориться с Николой или бабой его, укорят беззлобно, невзначай.
Ходит Никола к ведьме за травами лечебными тайно, баба ходит к ведьме тайком — вместе живут, а хоронятся друг от друга. Никола для жены носит, думает её вина, обижать не хочет, если только сорвётся когда. Маня (жена его) для мужа травки растолчёт, в еду скрытно подбросит. Себе насыплет на всякий случай.
К идолам проклятым ходили, дарами умасливали — пусто. К новой церкви обратились: батюшка благословил — не вышло. Видно, крепко богов обидели.
Не долог век человеческий, а для рождения детей ещё короче, — отчаялась семья, устала. Озлобился Никола и на сельчан, и на поганцев языческих, в церковь не ходит, с батюшкой не разговаривает. Народ причины не знает, думает «зазнался», ещё больше Николу не любит. Маню жалеют, а за спиной фигу от сглаза держат.
По утренней зорьке Маня окапывает двор. В пушистой земле всё ладно растёт — ростку легче к свету тянуться. Хозяйство что дитя: пригляда да ласка требуется: вовремя посади, вовремя собери. А не уследи, один сорняк выйдет.
Есть в деревне два хозяйства никудышных: Варвары, вдовы старой, да Василия неудачника. Оно понятно: Варвара стара, кости в могилу просятся, какое тут хозяйство. За самой не уследишь — двор тем более.
Василий — мужик бестолковый. Возьмёт, посадит что: то затопит частыми поливами, то засушит на корню. Пойдёт забор прямить — другой завалит.
Зато болтлив не в меру. Взбредёт в голову какая блажь — всей деревне разнесёт. Невзлюбит кого, — охает, наговорит с три короба. Наберёт всё что вспомнит, добавит чужого со всей деревни, да на не любимца свалит.
Народ не глуп, со временем разберётся, где правда и ложь, но от навета осадок остаётся: с опаской на оговорённого смотрят.
Сам Василий незлобен, может охотно кому помочь в работе простой, разговор поддержать, «хлебом» угостить.
И дураком его не кличут, и за умного не держат. Простая душа: то рассмеются над ним, то прислушаются внимательно. Всяко бывает, одно точно — в обиде никто его не бросит.
Николу в деревне не очень-то почитают, Василий оговорил было, — не удержался Никола, пошёл по «мужицкому» разобраться с обидчиком. Народ встал на сторону Василия — ещё пуще Николу невзлюбил.
Маня двор любит, с утра до ночи за ним ухаживает. Каждая травинка на счету: не забудется, не затопчется, вовремя польётся. Сорняк и то в дело годится: скотине в корм, или в отвал земляной вкопает, тем укрепляя защиту от пришлых вод. Инструмент всегда в порядке: Никола исправно за ним следит.
Вот и сегодня; взяв заступ, Маня быстро стала окапывать полосу вдоль ограды, — землю, что перину взбивает, комья крошит, ровным слоем постилает, на вскопанное ногой не ступает. Взглянет на полосу - «успею», и далее окапывает: хочется ей до обеда управиться, — на базар сходить, прикупить что, с товарками поболтать.
Воткнула Маня заступ в землю — не идёт — ногой придавила, вильнула он, чиркнула о твёрдое, соскочила нога — поранилась. Вскрикнула баба от неожиданности, Никола у сарая услышал, бросился к жене. Маня стоит растерянная, смотрит на камень в земле. Кровь стекает в ямку, да сильно — закружилось в голове. Никола подхватил жену — бегом в дом.
Схватил тряпку, водой смочил — обтирает ногу. Добрался до раны, горящий уголёк приложил, новой тряпицей вяжет. Жена охает, проклинает кого-то.
Устал Никола, умаялся. Ранка то небольшая, а крови отдала… Маня намучилась — то в жар, то в холод бросает. Изворочалась, раскидала постельное. Никола не слаб, и то порой не мог удержать — наляжет всем телом, вцепится в полати, пытается успокоить. К вечеру забылась Маня тревожным сном. Боится Никола жену оставлять, присел рядом.
Разбудил Николу шум во дворе. Встал с полатей осторожно; прикрыл Маню одеялом; вышел во двор.
Стоит Василий за оградой, рассматривает обнажённый Маней камень, ворошит землю палкой, ещё больше оголяет.
— Зачем пришёл? — не терпит Никола Василия, спрашивает с угрозой.
— Ты, Никола не серчай. Проходил мимо, смотрю — накопано.
— Говори, что надобно. Или иди своей дорогой…
— А ведь ты, Никола, чёрта откопал, — не хочет Василий уходить, никак не хочет. — Посмотри сам.
Некогда Николе с дураком болтать, гнать бесполезно, легче не перечить — быстрей уйдёт. Подошёл Никола к камню, чёрт не чёрт, а морда и правда из земли выглядывает, — видно, долго Василий копошился. Ещё и прищурился, высматривает:
— Крови гад напился, — Василий крестится, пятится прочь.
Всмотрелся Никола: Манина кровь на камне.
У Василия вода в одном месте не держится: быстро собрал слух деревню.
Ждали священника, да не в мочь — обуяло любопытство. Оно страшно, конечно, всё-таки бесовская сила, язычников поганец. Сперва киркой, да лопатой понемножку. Стервец лежит, боками сверкает на солнце… тихой, серый, зелёный. Черкнёт по нему кто, — след белый, да капля грязи с него, что кровь спёкшая. Жуть просто, а всё ж интересно — каков он, чёрт то.
— Окаянный, велик, однако.
— Может зря всё, водой бы окропить…
— Дурак ты, и баба твоя дура.
Вот так, за разговорами и до половины добрались. Здоровый чёрт, массивный, рожу каменную строит — насмехается будто.
— Рогов не видно…
— На себя-то глянь…
Страшно как-то, нечисть из земли выходит, точно в знамении: выйдут из могил лживые боги. Кто крестится, а кто и бочком-бочком, да и вон со двора — от греха подальше.
Руками не трогают, «зараза его возьми», а кто и зацепит ненароком — отойдёт в сторонку, землёй обтирает, — да брезгливо, богобоязненно.
Обкопали два валуна, голова, точно дьявол, да пузо поганое: груди, что у бабы, отвисшие, сосками да грязью загаженные.
— Господи, помилуй. У моей хрячки меньше будет…
— Никола! То же баба — бесиха значит.
— Противная, она ж тьму бесов зараз накормит.
— Венера блудница, — объявился священник со своим голосищем. — Из земли вышла, войско поганое отращивать.
— А что Отец, может в землю её?
— Спаси, святой человече, убери нечисть, — заверещали бабы.
— И то верно. Сжечь её! — ворчит толпа испугано.
— Так каменная же…
«Сжечь» — ворочается толпа, ещё более землю Николы топчет; отошла к дому; ждёт священника.
Растерялся батюшка: что с дурой делать? Земле предать? Так вылезет же тварь обратно. Да ещё жива останется.
— В повозку её, поганую. Да к церкви.
Подогнали телегу, возничий боится, гонит лошадь не глядя, та возьми и наступи на острое. Взбеленилась кобыла, кинулась прочь, сметая любопытных. За ней кинулись остальные. Один священник, да дьяк старый остались.
Поутру происходило, пока народ собрали; вина церковного на подкуп; уговоры; молитвы; анафемы — к вечерней зорьке только сладили.
Венера-каменная тяжёлая, голова рожею вверх, в одной телеге; брюхо в другой. Всю ночь маялись, — дорога дрянная, возничие от «дара божьего» на ногах не держатся. Пока дворы проезжали, священник читал молитвы, а далее устал, умаялся, — склонил голову, уснул.
Рожа смотрит вверх, покачивает головой, будто прощается с небом. Звёзды поют сверчками, паче разговор ведут. Подъезжают телеги, сверчки умолкают, молчат, что панихиду служат. Страшно мужикам, людно было — песни со страху орали, теперь затихли. Благо кони умные, без окриков движут.
Снится святому баба деревенская, губы полные, алые, — так и манят. Говорит учтиво, имя господне в её речи. Светится вся любовью, покорностью и ласкою. Не выдержал святой отец, понял, что не грешна, и он греха не свершит. С благословением божьим прильнул к губам алым, глаза прикрыл от неги небесной… Чур — губы каменные, холодные, комьями грязи мазаные. Раскрыл глаза: «О, Господи» — идола целует, бабу каменную. В испуге отпрянул — стукнулся об жердину.
— Что вы, батюшка? — возничий рядом хлопочет, тряпку слюною мочит, к затылку ему прикладывает. — Негоже так… убиться можно.
Святой отец сидит у «головы» испугано, не может понять — где правда, где сон.
— Дура подколодная. Блудница Великая, богопротивная… Время растления, время потопа нового…
Испугался мужичок, бросил тряпку, спрятался за лошадь с молитвой и крестным знамением: таращит глаза на святого отца. Тот же кинулся вон с телеги, да бегом к реке.
Так и простояли повозки до обедни во дворе церкви. Без отца боятся подойти. А он, бедненький, в реке обмывается, точно обгаженный. Трёт глиной, смывает водой. Кожа цветом, что губы блудницы: да нет, чувствует отец — остался грех — никак не сходит.
— Здравствуй, Отче, дьяк сказал, что вы ищите меня, — Василий наклонился, осторожно прошёл под низким проёмом двери. Прируб только построили, пахнет смолой, паклей свежей. Дверные проёмы низкие, даже человек небольшого роста склонит голову: поклонится невольно святым образам.
— Проходи, Василий. Верно, искал я тебя, — отец Фёдор добродушен, улыбается откровенно, нет усмешки, всей деревни известной, — помощь твоя нужна.
— Зря вы, Отче. Какая с меня помощь? Болезненный я, да и уметь ничего не умею. Разве только советом или разговором…
— Знаю, ленив ты в труде, совета нет от тебя нужды. Поговорить звал: новостей, о жизни, о людях хотелось услышать.
— Почто так? — Василий удивился приятно: человек учёный просит.
— Ведь ты, Василий, всегда при людях, всех знаешь, верно в каждом дворе бываешь. Вот и хочу поспрашивать о людях.
— Ежели, Отец, хотите доносчиком сделать, уйду сейчас же, — Василий напрягся, кулаки поджал, лицо нахмурил. — Обидно говорите, не по божьи.
— Нет, Василий, кляуз не жду от тебя, мне действительно помощь нужна, совет. Ты человек бывалый, всю жизнь при народе, я Богу служу, а служба моя часто затворничества требует.
— Прости Отче. Если так, помогу чем могу.
— Идола видел? — отец Фёдор перекрестился.
— Видел, Отче. Страшный, уродливый весь.
— А что народ думает — ведаешь?
— Волнуется народ, батюшка, шибко волнуется. Нашли бы его в трясине, с «Лысой» свалился, у меня во дворе, не приведи Господи, или где в другом месте: лучше было бы.
— И почему так? — отец Фёдор уселся рядом с Василием основательно, длинные полы свесил, кажется, гном большого роста стоит. Василий перекрестился, «чёрт путает», глаза прищурил, на батюшку всмотрелся: «точно путает» — батюшка перед ним, не наваждение.
— Худая молва о Николе ходит.
— Скажи подробнее: в хуле, в воровстве замечен? — отец сложил руки на груди, пальцами перебирает цепь грудного креста.
— Если так, давно побили бы. Пришлый он, чужой.
— Не понял я, Василий, ведь и я не здесь родился — тоже чужой?
— Вы, Отче, дело другое: вы человек простой, божий.
Отца Фёдора задело: слово простой — не к его лицу. Но, всё же лучше «чужого».
— Не прижился, стало быть… Расскажи, Василий, подробней: когда приехал, откуда.
— Мальчонкой его нашли, без имени, в грязную тряпицу завёрнутого. По весне потопило деревню нашу, собрался народ с подарками к Лысой горе. Всё сделали: чин по чину. Хотели было уж по домам расходиться, — прибежала Пелагея, слезами, криком вся исходит. Испугались, успокоить не можем: горе какое случилось? Она по земле катается, словно вся её родня куда провалилась. Дом горит? — огня не видно. Ограбил, надругался кто? — кому старуха нужна. Хорошо, Омела мимо шла, увидела Пелагею, — ничего не сказала, молча хвать хворостину, ударила бабу со всей мощи. Дура сразу успокоилась, лежит, только всхлипывает. Омела, словно ничего и не было, дальше пошла — сила нечистая.
— Омела, колдунья с горы?
— Она, ведьма старая, пропади она пропадом, — крестится Василий.
— Далее рассказывай.
— Стали допытывать скрягу, за что убивалась так. Дело простое оказалось: корова пропала. Пелагея жадная, куска хлеба не выпросишь, да будь сто раз скотина стельная, негоже истерики устраивать в святой день.
— Чем же он свят, Василий? — не утерпел отец Фёдор. — Богохульство, хула на веру Господню — вот как называется ваш святой день.
— Не серчай, Отец. Про твоего Бога нам не ведомо было, молитв Его не знали. К кому обратиться, сиротам человеческим.
— Исправлю, поставлю на путь истинный!
— Решились почти всей деревней, поддались в гору. Корова быстро нашлась. Присмотрелись, господи помилуй, — перекрестился Василий на образа, — вместо телёночка лежит ребёночек. Только большой для новорождённого, росточком в полугодовалого.
Вскочил отец Фёдор с гневом, лик Христа заслонил собой:
— Думай, что говоришь. Человек от человека, скотина от скотины — ни как по-другому.
— Не гневайся, Отец, что было то и говорю. Вот крест живо… истинный, — ищет Василий образа, находит, крестится неистово.
— Страшны знамения: мёртвые из земли, лживые боги просыпаются. Конец света, если всё перевернулось: корова человека…
— Прости, Отче, грех наш, испугались мы, хотели выродка убить — не смогли, убоялись.
— Чего испугались, ироды? Гнев Божий страшен — ничего более. Без его воли волос с головы не падёт, не уж-то думаешь: родит тварь дитя человеческое без его воли…
Василий от удивления остановил крест, застыла рука у пупа.
— По воле Божьей родилось?..
— Молчи, молчи, совсем запутал, ересь говорю, — растерялся отец: по воле божьей? Диавол?
Развернулся Фёдор к иконам, стал на колени, вскинул руки: усмиряет гнев и сомнение. Василий рядом топчется, не знает, что делать. «На колени» — прохрипел отче сквозь молитву. Бухнулся Василий, ушиб ноги. Покатилась слеза по шершавой щеке: от боли, от вины пред Богом, от обиды на себя.
Отец встал, перекрестился вновь, развернулся, уселся, смотрит на Василия. Прошёл гнев, жалко недотёпу.
— Бог, Василий, прощает заблудших, если покаются, вернутся в стадо Божие.
Василий сел на старое место.
— Верую, Отче, верую.
— Сказывай далее, не томи себя, — кайся.
— Прости Отец, не было меня тогда, не родился, пелены не повесили.
— Как не родился, голову мне морочишь?
— Нет, рассказываю, про что старики говорят.
— Продолжай, да на гнев мой не обижайся, от жалости к народу гневаюсь.
— Заплакал он, ирод. Жалко, как есть дитё малое. Пелагея не выдержала, взяла ребёночка. Он руки почувствовал женские, успокоился, уснул сразу. Скажи, Отче, у кого рука поднимется на дитятку спящую? Так она его и приютила. Народ её двор стороной обходил, знать перестал. Лысая гора в тот год совсем озверела, подарки не приняла, в деревню всё вернула: грязью измазала, да во двор старейшине скинула. Понял он, гневаются боги, надобно гадёныша горе вернуть. Собрали сход, пошли к Пелагее. Дожди в ту пору не переставали, про Солнце совсем забыли — какое оно. Подошли к дому Пелагеи. Старуха вышла в дверь, держит в руках жердину: «Не отдам». Стали решать, что с бабой делать.
— Бес вселился в неё.
— Не спеши, Отче, расскажу, по концу и решай. Спасибо, Омела от детоубийства охранила.
— Уговорила ведьма. Глаза запечатала колдовством?
— Скор ты, Отец, на расправу. Бог тебе судья. Омелу мало кто слышал, говорит она редко, слишком редко. Многие до сих пор думают, что ведьма без языка: чёрту обменяла на силу. Показала молча за ней идти. Кто остался, кто решился. Те, кто остались, стоят, ждут ушедших, гадают. Вернулись без ведьмы, говорят, мол, не виновата Пелагея, и дитя просто брошено злыми людьми.
— Как доказывалось?
— Телёночка нашли, к заднему забору Еремея прибило его пришлой водой. Мало того, как телка увидели, дождь перестал, солнышко засветилось. Знамение даже упорных остудило. Вода быстро ушла.
Решили ребёнку имя дать — скотинка имя носит, человеку тем более надо. Принесли его к рассвету на камень, по обряду нарекли Николой. Вот только пелены не вешали, была при нём матерка маленькая, хотели её, но Пелагея в печи сожгла. С тех пор живёт с нами. След, конечно, остался, побаивается его народ: хитрый чёрт обмануть мог. Без Омелы не выжил бы, она ведьма, может и он ведьмак — не ведомо.
Продолжение следует.
СкрытьНепутёвые заметки. Первое знакомство. - рассказы, 14.02.2022 15:33
Она была готова ко всему: пропаже билета, краже багажа, да что угодно, вплоть до сошедшего с рельс поезда. Но она никак не ожидала увидеть священника, входящего в её купе. Самого настоящего: в чёрной рясе, длинными волосами и маленькой бородкой. Он, заслонив собой проём двери, низким голосом спросил:
— Простите великодушно, двенадцатое место в этом купе?
Она растерялась, испугалась и не смогла ответить. Священник наклонился, прочитал номерки и, найдя нужный, расправив полы рясы сел на край лавки. Прошла минута прежде, чем она пришла в себя: испуганное сердце замедлило темп, бледность с её лица сошла. Уже больше от стыда она отвела взгляд от испугавшего её человека. Священник смутился не менее.
— Извините, что напугал Вас. Но по воле Божьей я оказался здесь.
Она вновь смотрела на него, боясь шевельнуться.
— Если Вам угодно, я попрошу проводницу поменять мне купе.
— А как же божья воля? — неожиданно для себя спросила она.
— Верно, не гоже как-то, — и улыбнувшись, продолжил — Отец Фёдор.
«И совсем не страшно» — подумалось ей:
— Ольга, — и зачем-то добавила — Некрасова.
— Николаевна?
— Михайловна. Николай Алексеевич не родственник мне. — и с укором спросила — Я так старо выгляжу?
— Каюсь, если обидел Вас, — священник склонил голову — не приходилось мне знакомиться. Уж дюже напугались Вы.
— Я встречалась с батюшкой раза три, и все встречи были связаны с похоронами моих родственников.
— Вы, Ольга, судя по всему, человек начитанный и так мало знаете о Церкви.
— Нет, просто у меня такой личный опыт. Думаю, не ошибусь: Вы едете кого-то отпевать.
— Такие ошибки случаются от уныния, и лучше, если от неведения.
Уже были розданы постели, выпит чай. Поезд шёл по степи, редкие огоньки лениво проплывали в темноте. Ольгин страх улетучился, вместо него появилось любопытство. Ведь не так часто говоришь со священником вне церкви. Но, отнюдь, долгая беседа не затрагивала религиозные темы — шёл обычный вагонный разговор. Два совершенно незнакомых человека могут спокойно рассказать друг другу о своих бедах, похвалиться об удачах, о будущих планах. Такие разговоры легки, ведь сойдя с поезда, уже никогда не встретишься с собеседником.
Отец Фёдор бал немногословен, слушал внимательно. Может такт, может священный чин — монологи Ольги не перебивались. Девушка говорила обо всём, и с каждым словом на душе становилось легче. Ей казалось, что большие обиды становятся всё меньше и меньше. Как жаль, что они не исчезнут, когда-то снова наберут свою силу…Внутренний инстинкт (осмеют, не поймут) не мешал ей высказаться. Но и на исповедь её рассказы не были похожи — просто всё наболевшее выходило прочь.
— Я Вас, наверное, заболтала. А Вы всё молчите и молчите. Так много Вам наговорила…
— Сами виноваты, не умели бы слушать, давно уж замолчала…
— Только прошу Вас, не говорите, что отпускаете грехи мои, я Вам не исповедовалась. И в Бога не верую…
Отец Фёдор наблюдал за Ольгой, изредка покусывая ус. В его взгляде не было укора за услышанные грехи, ни радости за услышанное добро. Но не было и капли равнодушия, усталости от «разговора».
— Странно. Я говорила почти одна, а, кажется, что мы провели прекрасную беседу. Спасибо Вам.
— Скажите, только честно, что со мной?
— Жизнь. Обычная жизнь. — священник ответил тихо, задумчиво.
— Вам хорошо, Вы живёте в другом мире, у вас всё по-другому.
— Почему? Мы тоже люди, живём и ошибаемся как все.
— Вы верующий, Вам легче. Вам Бог помогает.
— Господь никого в беде не оставляет.
— А неверующие, атеисты?
— Вы, Ольга, видели хоть одного атеиста?
— Конечно! Всех, кого я знаю, не верят в Бога.
— Ошибаетесь, Ольга. Истинно неверующих мало, очень мало. И в бедах каждый призывает к Божьей Помощи.
— Не думаю, в беде в кого угодно поверишь, лишь бы помогло.
— Но почему-то, Ольга, вспоминают не кого угодно, а Бога.
СкрытьПояс грехов - рассказы, 14.02.2022 15:28
Необычные люди живут в необычном мире. Келья просто обязана быть необычной — с огромной библиотекой для духовного роста; мистическими атрибутами, ой нет, замолёнными веками иконами, вечно горящими свечами… Но, в маленькой комнатушке всего-то обычная кровать, табурет и колченогий стол. Книги? всего три: старый учебник по физике за девятый класс, сборник стихов поэтов серебряного века и что совсем странно — Коран.
Ольга даже растерялась — обычная комната холостяка. Хорошо хоть на столе лежит Евангелие, а в углу висит божница. Около двери вешалка: плащ, сутана, серый халат. Уходя на вечернюю молитву, отец Фёдор, развязав свой пояс, аккуратно повесил его на гвоздь, вбитый в стену рядом с вешалкой. «Ох уж эти мужики, кем бы вы не были, а все бестолковые. Вешалки для того и придуманы, чтобы на них вешать» — Ольга сняла пояс с гвоздя. Крепко затянутые узлы расположились плотно на одной стороне чёрной ленты. «Наверно они мешают» — Ольга решила проверить свою мысль и туго повязала пояс на талии. Даже через тонкую ткань платья узлы почти не чувствовались. «Да, не вериги». Ольга сняла пояс, добавила ещё узел и снова одела его.
— Не гоже чужие грехи примерять. Своих мало? — рассерженно крикнул с порога отец Фёдор.
— Я просто померила ваш пояс — в чём здесь грех? — обиделась Ольга.
— Есть вещи, которые ты не знаешь, — отец Фёдор сказал тихо, но с металлом в голосе.
— Правда. Но это ещё не повод кидаться на людей.
Повязав пояс, священник привычным движением ощупал узелки. Заметив лишний, снял пояс, задумчиво посмотрел на новый узел, на Ольгу и не стал его развязывать.
— Я зову его поясом грехов.
— Да ну? Расскажите мне.
— Видишь ли, каждый узелок есть грех, коим я страдаю. Они напоминают мне о моём несовершенстве, о нужде бороться.
— Зачем же тогда вы его снимаете?
— Во время службы, молитвы, я говорю с Господом, а не воюю с собой. И на исповеди я должен «принять» грехи людские, а не думать о своих.
— Скажите, отче, а их много или мало? — показывая на узлы, спросила Ольга.
— Если будешь считать чужие грехи, то и двух поясов не хватит. Каждый думает о своём глазе — с соринкой. Это одна крайность. Есть и другая: навалишь на себя и грехи настоящие, и грехи выдуманные. А много ли увидишь через завал из брёвен?
— Самобичевание?
— Тоже грех, но чаще другой.
— Не поняла…
— Себялюбие.
— Если человек обвиняет себя во всех грехах — себялюбие?
— Мне часто приходилось на исповеди слушать людей, наговаривающих на себя безмерно, особенно женщин. Своя боль больнее, и хочется, чтобы тебя жалели. Некоторые думают, что, признаваясь во всех грехах, становятся ближе к Богу — менталитет холопа, лицемера. А бывает и хуже — гордыня — любой грех по плечу.
— Я думала, ваши узелки что-то другое. Вы порой так ласково их поглаживаете…
— Человеку свойственно лелеять свои грехи. Чужие — проклинать, искоренять. Свои грехи — слабость, и на грех-то не тянут.
— И вы…
— Я прежде человек, и «слабость моя не грех». Потому и связал узлы, дабы грехи называть Грехами. И слабость покаяния есть Грех. Вот он, — отец Фёдор указал на первый узел.
— Значит слабость покаяния самый тяжкий грех?
— Нет, это первый грех, найденный мною.
— А если все люди носили пояса, было бы здорово.
— Нет, Ольга, стало бы хуже. Встречали бы не по одёжке, а по «грехам».
— И всё же я хочу такой пояс, я думаю, он мне поможет.
— Носи. Но, пусть ни одна душа не знает, зачем он. Иначе ты будешь думать больше о его «красоте» чем о себе.
СкрытьЖизнь, что письмо - философия, 08.02.2021 14:26
Жизнь, что письмо на чистом листе. У кого-то маленький листок, у кого-то стандартный, некоторые замахиваются на ватман.
Листок большой — на многое хватит. Писать пока не умеем, но мы же не знаем об этом, вот и возмущаемся, когда нашу красоту кличут каракулями. Спорим, доказываем, начинаем понемногу понимать, всё чаще соглашаться.
Мечтаем стать взрослыми. Подражаем. Учимся писать буковки. А буковки, хоть и стандартные, но как их приучить к правильному порядку?
А чтение? Ещё та мука. Читаешь чужие мысли, заучиваешь.
Начало листка не теснит тебя. Хорошо, просторно. Да и буковки стали поменьше. Да не всем твой почерк по душе. Стараешься слушать советы, писать поровней, красиво, разборчиво, что говорит о твоём образовании.
Хочется о многом-многом написать. А тебе всё талдычат — береги с молода. Теперь буковки сжимаешь, надо в строчку размещаться.
Абзац, что понедельник. Начинаю новую жизнь — с понедельника. Не, сегодня некогда, да завтра, не, с абзаца, фу ты — с понедельника.
Торопишься, спешишь. Буковки что каракули.
Да бросьте вы, — если я с каждой буковкой возиться буду…
О, про строку напомнили.
А как часто нам не хватает времени — длины строки. Буковки уплотняются, слова сокращаются. Подбираются чаще по длине, не по смыслу.
Потом трудно читать, но ты не думаешь о других строчках — надо в эту разместиться.
Соседу проще — урвал где-то ватман, хоть картины рисуй.
Почему у меня не так? Стараешься, стараешься, каллиграфией тут. А сосед…
Да, радовался листочку, а теперь видишь изъяны. И бумага не та, и ручка… Карандашом хорошо — стиралка есть. Когда боишься ошибок, сильно не давишь — стереть, если что, можно.
Увлёкся, забылся — жмёшь со всей дури. Подломился грифель — подточил по-быстрому — муза ждать не будет.
Устал, остановился. Прочитал. О, господи, да что ж я натворил? Стирать, удалять к… Ластик мажет, следы глубокие.
Стирать, стирать. Твою… дырка. Что за листы хлипкие. Вот раньше — картон. У соседа ватман, ему проще, ему ластик не нужен.
А когда появляется чтец. Хочется, чтобы понравилось, запомнилось. Вот где ластику работа— стирай, пиши, стирай.
Стирать приходится чаще. Переписываешь, желаешь всё изменить. Блин — не помещается. Даже сжать… Сотру. Всё равно ничего не получается.
Зато в глаза не бросается.
СкрытьИщущие - философия, 07.02.2021 18:25
Человек — имя твоё — Ищущий.
Зачем покинул пенаты свои?
Рождающий цели, но забывший себя,
Потерявшийся в мире бытия
Зачем покинул пенаты свои?
Рождающий цели, но забывший себя,
Потерявшийся в мире бытия
Человек — ищущий Бога,
Во вселенных, мирах,
Но невидящий Его в каждом из вас,
В родителях, друзьях, врагов.
В каждой слезинке детей, в муках рождения
Плачет Бог слезами вашими.
Во вселенных, мирах,
Но невидящий Его в каждом из вас,
В родителях, друзьях, врагов.
В каждой слезинке детей, в муках рождения
Плачет Бог слезами вашими.
И молитесь иконам с надеждой,
И веруете более в Гнев божий,
Ибо доброта Его не замечаема вами.
И мечты и страхи свои находите в Боге
И веруете более в Гнев божий,
Ибо доброта Его не замечаема вами.
И мечты и страхи свои находите в Боге
Вы скажете — ищите Бога,
В том и беда ваша, и радость
Хоть и создали Бога по разуму вашему
И поклоняетесь теням Истины
В том и беда ваша, и радость
Хоть и создали Бога по разуму вашему
И поклоняетесь теням Истины
Придёт мечта твоя, человек
— Для многих неведомо.
Исполнятся все мечты твои, человек.
Но, будь осторожен — всё исполнится
И явное, и тайное.
— Для многих неведомо.
Исполнятся все мечты твои, человек.
Но, будь осторожен — всё исполнится
И явное, и тайное.
И нет оправдания во лжи,
Что память слаба, не помнит былое.
И никто не признается, что и настоящее неведомо.
Ибо хочется верить в лучшее в радости,
И в худшее в печали неверия
Что память слаба, не помнит былое.
И никто не признается, что и настоящее неведомо.
Ибо хочется верить в лучшее в радости,
И в худшее в печали неверия
Ищущий, что движет тобой:
Недовольство старым или жажда нового?
Недовольство старым или жажда нового?
Бога ищешь или сильнейшего?
Для Души приют,
Или кары для обижающих тебя?
Для Души приют,
Или кары для обижающих тебя?
Не разделены Дороги для святых и грешников
Говорят вам — слепцы.
Ищите себе подобных,
Иное не замечаемо вами
Ищите себе подобных,
Иное не замечаемо вами
Говорят вам — глухи.
Ибо слышите немногое
Ибо слышите немногое
Говорят вам — вы центр Вселенной
Уверуете — другой не увидите.
Человек! Несущий крест свой,
Всмотрись, ищущий:
Не те ли дрова, что сожгут тебя
Не те ли узы, что распяли Христа
Не тот ли яд, что закрыл глаза Буды
Не те ли слова, что мешали слушать суры
Может ноша твоя — таран,
Чтобы разбить колесницу Кришны.
Уверуете — другой не увидите.
Человек! Несущий крест свой,
Всмотрись, ищущий:
Не те ли дрова, что сожгут тебя
Не те ли узы, что распяли Христа
Не тот ли яд, что закрыл глаза Буды
Не те ли слова, что мешали слушать суры
Может ноша твоя — таран,
Чтобы разбить колесницу Кришны.
–––
Человек — ищущий Бога,
Человек — потерявший себя
— Кто ты?
Чьей рати ты воин — Рая, Ада?
Человек — ищущий Бога,
Человек — потерявший себя
— Кто ты?
Чьей рати ты воин — Рая, Ада?
Велик человек, ибо одарён выбором
Слаб человек, ибо одарён выбором
Слаб человек, ибо одарён выбором
Любовь, обросшая плотью,
Страдание под маской сладострастия
Страдание под маской сладострастия
Ищущий что меч
Но кем заточен он?
Чьи руки овладеют им?
Что принесёшь ты?
Горе? Счастье?
Но кем заточен он?
Чьи руки овладеют им?
Что принесёшь ты?
Горе? Счастье?
Нет!
Во множестве дорог
Ты не первый, не последний.
Опора, надежда для многих.
Ищущий, тебе решать:
Стать дорогой или верстовым столбом.
Во множестве дорог
Ты не первый, не последний.
Опора, надежда для многих.
Ищущий, тебе решать:
Стать дорогой или верстовым столбом.
Человек, одарённый выбором,
В твоей власти убиться, родиться
Тебе выбирать ворота в Ад и Рай.
Богом дана тебе Воля,
Богом, — может в том Беда Его.
Или Счастье?
В твоей власти убиться, родиться
Тебе выбирать ворота в Ад и Рай.
Богом дана тебе Воля,
Богом, — может в том Беда Его.
Или Счастье?
Человек — кровь Земли,
Но и червь, пожирающий.
Холодный огонь жарких Вселенных
Познавший смерть, чтобы жить.
Но и червь, пожирающий.
Холодный огонь жарких Вселенных
Познавший смерть, чтобы жить.
Цветок жизни:
Кто рассадой,
Кто в домашнем горшке,
Кто в вольном поле.
Но есть и цветы срезанные,
Связанные в букеты красивые.
Кто рассадой,
Кто в домашнем горшке,
Кто в вольном поле.
Но есть и цветы срезанные,
Связанные в букеты красивые.
Человек Ищущий
Ты ось людских вселенных.
Ты крест с распятою надеждой.
Для многих крест, что клином,
Но и Воскрешенье есть.
Ты ось людских вселенных.
Ты крест с распятою надеждой.
Для многих крест, что клином,
Но и Воскрешенье есть.
Ты царь над шутом,
Но то лишь правды отраженье
В разбитом зеркале непознанных истин
Но то лишь правды отраженье
В разбитом зеркале непознанных истин
Во множестве бед нет еретиков,
И мало веры в счастливом неведении.
И сражаешься, человек,
Во имя Веры — Неверия.
И мало веры в счастливом неведении.
И сражаешься, человек,
Во имя Веры — Неверия.
Есть Миры, где нет еретиков,
ибо не созданы меры.
Трудно, но стоит жить, не попирая другого храма
И тогда в каждом поселится Бог.
ибо не созданы меры.
Трудно, но стоит жить, не попирая другого храма
И тогда в каждом поселится Бог.
Не бывает миров мрачных
Не бывают миры мёртвые
В каждом живёт надежда
И смерть её рождает пустоту
Не бывают миры мёртвые
В каждом живёт надежда
И смерть её рождает пустоту
Вы не слышите нас,
не верите в нас.
Но будем раздором Вам,
Ибо разбуженный зверь разумней
не верите в нас.
Но будем раздором Вам,
Ибо разбуженный зверь разумней
Вы скажите — спокойней со спящим.
Но придёт пробуждение.
Но придёт пробуждение.
Для многих любимы вы
Для многих — звери
Для многих — звери
И радуются вам — ищущим
И завидуют вам — забывшим
И ненавидят вас — звериному
И завидуют вам — забывшим
И ненавидят вас — звериному
И нет жалости к вам
Ибо для вас унижение
Ибо для вас унижение
Нет равнодушных к вам
Ищущий! Ты неодинок
И мы, и многие, шагают с тобой в неизвестность
И мы, и многие, если не уберегут от падения,
— помогут подняться
И мы, и многие, шагают с тобой в неизвестность
И мы, и многие, если не уберегут от падения,
— помогут подняться
Вы скажите — гневны.
Разве мать гневается сыном?
И строгость наша — отцовская
Разве мать гневается сыном?
И строгость наша — отцовская
Мы приходим снами, озарением,
Любовью, талантом и гневом.
И каждому мгновению пробуждения
Радуемся вам
Любовью, талантом и гневом.
И каждому мгновению пробуждения
Радуемся вам
Спросите: Доброе? Злое?
Если царствует зло над Вами — злом ответим.
Если добром носимы — добром.
Мы сила, но слабы разумом в руках Ваших.
Ибо приходим не хозяевами,
Но и не гости Ваши.
Если царствует зло над Вами — злом ответим.
Если добром носимы — добром.
Мы сила, но слабы разумом в руках Ваших.
Ибо приходим не хозяевами,
Но и не гости Ваши.
Да, Вы ничтожны, ибо познали Величие.
Да, Вы глупы, ибо познали гениев.
Да, Вы слепы, ибо видели.
Да, Вы глухи, ибо слышали только уста свои.
Да, Вы ищите, ибо теряете по лени Вашей.
Да, Вы глупы, ибо познали гениев.
Да, Вы слепы, ибо видели.
Да, Вы глухи, ибо слышали только уста свои.
Да, Вы ищите, ибо теряете по лени Вашей.
Вы соль Земли.
Но не будьте ею на ранах наших,
Ибо устали от Вас, но любимы.
Но не будьте ею на ранах наших,
Ибо устали от Вас, но любимы.
Скоро, скоро придёт — Иное время, Иная жизнь.
Не будьте слепцом:
Увидьте.
Найдите.
Войдите!
Не будьте слепцом:
Увидьте.
Найдите.
Войдите!
Мы не прощаемся с Вами, ибо не покидали Вас.
И будем волнением вашим.
И в совести, и в радости, и в печали.
И разделим груз прошлого
Ранее сказанного и прожитого.
СкрытьИ будем волнением вашим.
И в совести, и в радости, и в печали.
И разделим груз прошлого
Ранее сказанного и прожитого.
Совесть - миниатюра, 03.07.2012 05:25
Не получается у меня жить с совестью мирно. То ли я упорный негодяйкин, то ли она зануда. Что тебе надо, совесть? Почему ты всегда не со мной?
Придёт нежданно ностальгия, вспоминается жизнь: на сердце тепло, уютно. Её величество Печаль нашёптывает душе странички прошедших дней — Грусть и Тоска нежатся воспоминаниями.
Совести у тебя нет — Совесть. Вломилась, незваная, со своими нотациями. Какая ностальгия, — суд. И забывчивость вместо адвоката.
Сидим кружком, все хвастаются друг пред другом. А у меня ни баб, ни пьянок. Даже стыдно, совестно как-то.
Странная ты, Совесть.
СкрытьИдол - рассказ, 25.07.2019 07:01
Привезли на рассвете к церкви идола. Из земли крестьянина вырос он после дождя, боком каменным. Весь заплесневелый, мхом обросший. Быстро слух собрал всю деревню, столпился народ. Никола, хозяин двора, вроде бы и рад, да дюже много потоптали вокруг. Ждали священника, да не в мочь: обуяло любопытство. Оно страшно конечно, всё-таки бесовская сила, язычников поганец. Сперва киркой, да лопатой понемножку. Стервец лежит, боками сверкает на солнце… тихой, серый, зелёный. Черкнёт по нему кто, — след белый, да капля грязи с него, что кровь спёкшая. Жуть просто, а всё ж интересно — каков он, чёрт то.
— Окаянный, велик однако.
— Может зря всё, водой бы окропить надобно.
— Дурак ты, и баба твоя дура.
Вот так, за разговорами и до половины добрались. Здоровый чёрт, массивный, рожу каменную строит — насмехается будто.
— Рогов не видно…
— На себя-то глянь…
Страшно как-то; нечисть из земли выходит, точно в знамении: выйдут из могил
лживые боги.
Кто крестится, а кто и бочком, бочком, да и вон со двора — от греха подальше.
Руками не трогают, «зараза его возьми», а кто и зацепит ненароком — отойдёт в сторонку,
землёй обтирает,— да брезгливо, богобоязненно.
Обкопали два валуна; голова, точно дьявол, да пузо поганое: груди, что у бабы, отвисшие, сосками и грязью обгаженные.
— Господи, помилуй. У моей хрячки меньше будет…
— Никола! Тоже баба — бесиха значит.
— Противная, она ж тьму бесов зараз накормит.
— Венера блудница. — объявился священник со своим голосищем.— Из земли вышла, войско поганое отращивать.
— А что отец, может в землю её?
— Спаси, святой человече, убери нечисть. — заверещала Николы баба.
— И то верно. Сжечь её.— ворчит толпа испугано.
— Так каменная же…
«Сжечь» — ворочается толпа, ещё более землю Николы топчет; отошла к дому; ждёт священника.
Растерялся батюшка: что с дурой делать? Земле предать? Так вылезет же тварь обратно.
Да ещё и жива останется.
— В повозку её, да к церкви поганую.
Подогнали телегу, возничий боится, гонит лошадь не глядя, та возьми и наступи на острое. Взбеленилась кобыла, кинулась прочь, сметая любопытных. За ней кинулись остальные. Один священник, да дьяк старый остались.
По утру происходило, пока народ собрали, вина церковного на подкуп, уговоры, молитвы, анафемы: к вечерней зорьке только и сладили.
Венера каменная тяжёлая, голова рожею вверх, в одной телеге; брюхо в другой. Всю ночь маялись — дорога дрянная, возничие от «дара божьего» на ногах не держатся. Пока дворы проезжали, священник читал молитвы, а далее устал, умаялся,— склонил голову, да уснул.
Рожа смотрит вверх, покачивает головой — будто прощается с небом. Звёзды поют сверчками, паче разговор ведут. Подъезжают телеги, сверчки умолкают, молчат — что панихиду служат. Страшно мужикам, людно было — песни со страху орали; теперь затихли, благо кони умные, без окриков движут.
Церковь новая, ладно строена. Подход к ней камнем вымощен. На рассвете застучали колёса, трясёт поклажу да людей в повозках.
Снится святому баба деревенская, губы полные, алые: так и манят. Говорит она чтиво, имя господне в её речи. Светится вся любовью, покорностью и ласкою. Не выдержал святой отец, понял, что не грешна, и он греха не свершит. С благословением божьим прильнул к губам алым, глаза прикрыл от неги небесной… Чур — губы каменные, холодные, комьями грязи мазаные. Раскрыл глаза: «О, Господи» — идола целует, бабу каменную. В испуге отпрянул, да и стукнулся об жердину.
— Что вы, батюшка?— возничий рядом хлопочет, тряпку слюною мочит, к затылку ему
прикладывает.— Не гоже так… убиться можно.
Святой отец сидит у «головы» испугано и не может понять, где правда, где сон.
— Дура ты подколодная. Блудница Великая, богопротивная… Время растления, время
потопа нового…
Испугался мужичок, бросил тряпку, спрятался за лошадь с молитвой и крестным знамением: таращит глаза на святого отца. Тот же кинулся вон с телеги, да бегом к реке.
Так и простояли повозки до обедни во дворе церкви. Без отца боятся подойти. А он, бедненький, в реке обмывается, точно обгаженный. Трёт глиной, смывает водой. Кожа цветом, что губы блудницы: ан нет, чувствует отец — остался грех — и никак не сходит.
СкрытьСлова - миниатюра, 25.07.2019 06:59
Мне пять лет и я вижу цветные сны. Они хотят мне что-то рассказать, чему-то научить. Но я ещё маленький и не понимаю их. Я разглядываю сны как картинки, стараюсь запомнить, расспрашиваю взрослых. Папа, мама, вежливо выслушают, пожмут плечами: « Ты же растёшь». Посторонним всё не расскажешь. А если кто и послушает, скажет: фантазёр.
Я боюсь бабаек со снов, бабушка разделяет мой страх. Она не пытается объяснить всё моим ростом или фантазиями. У нас разные сны. У меня множество героев: сильных, смелых, они борются, кого-то побеждают. Бабушкин сон как обыкновенная жизнь. Нет приключений, нет полётов: обыкновенные чёрно-белые сны. Её сны я тоже не понимаю, но если она увидит чистую реку с чистой водой, то радуюсь вместе с ней. Тучи в её снах, потоки грязи, злые люди пугают и бабушку и меня.
Бабушкин сонник весь истрёпан, вырванные странички выпадают. Считать числа я научился по нему, складывая листки по порядку. Бабушка любит разгадывать сны, и её разгадки не совпадают с книгой никогда. Порой противоречие настолько сильное, что злое знамение из сонника превращается в доброе и наоборот.
— Зачем тебе, бабушка, эта книга? Если ничего в ней тебе не подходит.
— Она мне подсказывает, внучек.
— Но, ведь все подсказки неверные…
— Любое слово учит, а верное оно или нет, всё относительно.
Вот, снова слово «относительно». Слово отговорка, перевёртыш. Можно соврать с три короба, скажешь «относительно» и ты не лгун, а философ.
Есть слова «умные», «детские» и «взрослые».
Умных слов я боюсь, например, слово «телекоммуникация» мне не о чём не говорит, оно «взрослое» и мне не нужное.
Слово «хочу» детское. Хочу игрушку, в ответ: какой ты маленький. Даже, когда папа или мама говорят «хочу», ответ тот же: ну что ты как дитё малое.
Слово «надо» взрослое, и я его не люблю. Почему-то «надо» всегда не вовремя, всегда мешающее. Придёт папа с работы поздно: мама ругается, папа оправдывается - «надо было доделать…». Только разыграешься — надо спать, помыть руки…
Бабушка любит слова «святые»: бог, ангел, любовь. Она произносит их всегда тихо и с придыханием. Папа: «Бог с ним, тоже мне ангел нашёлся» — произносит чаще громко и зло.
Странно, одни и те же слова могут превращаться из добрых в злые и даже в никакие.
— Бабушка, почему так? Почему говорят неправильно?
— Нет неправильных слов, внучок. Человек говорит чувствами, если человек злой, то и доброе слово злое.
— Папа, мама злые?
— Нет. Папа и мама у тебя добрые. Они просто уставшие, отдохнут и всё будет хорошо.
У нас во дворе живёт дядька. Он постоянно улыбается, со всеми здоровается. Местные голуби не боятся его, вьются вокруг. Он вывернет карманы: рассыплются семечки, голуби клюют. Один раз он подозвал меня:
— Хочешь покормить?
— Да.
Тогда он взял мою ладошку, насыпал семечек:
— Наклонись, покажи птичкам…
Я присел на корточки, стараюсь не шевелиться, ладошка на земле. Голуби заметили, но вдруг мама позвала меня. Позвала требовательно, испугано.
— Он же дурачок. Кто знает, что ему взбредёт в голову. Никогда, слышишь? никогда не подходи к нему.
Папа и мама иногда называют меня дурачком. Ласково, с любовью. Значит «дурачок» слово доброе? Тогда почему мама эти же слова про дядьку говорит со страхом?
Во снах я часто слышу незнакомые слова, нет не так: во сне я знаю о чём они. Но просыпаясь, я не могу даже произнести их: только вспомню начало, забываю середину. Остаются только краски. Все слова имеют цвета, даже буковки.
Буква «А» мне кажется большой и главной. Я даже пробовал её рисовать. В букваре есть картинка «арбуз». Её нарисовал взрослый и мне кажется, совсем неправильно.
Бабушка плохо слышит и потому часто переспрашивает: «А?» Если мне никто не верит, то в ответ отмахнутся рукой с протяжной: «А…» Поверят? Опять «А», здесь буква важная и кончается на «о».
С буквой «Б» я познакомился от:
— Если бы да кабы, то во рту росли грибы, — любимая папина поговорка.
Мне не нравится эта буква: было, болван, быль-небылица… Было, быль — уже всё прошло, забылось — грустная буква.
Ещё я не люблю букву «Р». Она даётся мне с трудом, и я меняю её на букву «Л». Я люблю маму, а мою маму зовут Лида — я люблю маму Лиду. Очень красивая буква.
Я беру краски и рисую слова: по цветам-буквам. Мне нравится смешивать краски, тогда получаются новые слова. Бегу к маме, папе, но им некогда и только бабушка радуется со мной. Она не говорит, что таких слов не бывает, не говорит, что я расту.
Рисую слова известные. Слова папа, отец, папаня и папочка цветами разные, непохожие. Когда папа злой, первой буквой рисую «Б».
В детском садике мною не нарадуются:
— Какой молодец, в пять лет уже читает, да не по слогам.
И никто не верит, что я не умею читать, просто я помню краски — картинки слов.
— Папа, сколько слов на свете?
— Миллион, — папа отвечает быстро, не задумываясь.
Миллион число большое, мне незнакомое.
— Мама, сколько я буду жить?
— Много.
— А много, это больше мильона?
— Конечно, сынок.
Я взрослею, краски тускнеют — меняются «слова». Когда я научусь читать как взрослые, научусь и говорить «добрые» слова со злом.
Придёт время, любимая скажет мне — ненавижу. Я услышу звуки без цветных красок, потому и не увижу в этом слове признание любви.
СкрытьСолнышко - миниатюра, 06.03.2019 19:46
Я иду по улице. Солнышко (совсем не Солнце — солнышко) осветило лица прохожих — людей. Даже вечно грустные лица, ожидающие очередную беду, сегодня нарядились пусть еле заметной, но улыбкой. Робкой улыбкой надежды — может не так всё плохо…
Сейчас, в момент мимолётного счастья, даже не счастья, а веры в счастье, совсем не хочется замечать что-то плохое.
На лавке пристроился бомж. Он оголил грудь, лучики солнышка отогревают его давно замёрзшее сердце. Хорошо ему.
Я присел напротив. Спасибо моему сердцу, что не прошёл мимо, — заметил.
Я не знаю сколько ему лет, даже примерно. Судьба насчитала ему годков, отметилась щедро морщинами и грязью, добавила запах, одела в рваные одежды. Но сейчас отошла в сторонку, чтобы не вспугнуть его грёзы, его воспоминания.
Скорее всего я не прав, может он думает сейчас совсем о другом, но я увидел в его глазах ребёнка — ещё не умершего, ещё верующего в далёкое прекрасное. В нём сидит тот мальчишка, когда-то мечтающий стать врачом, пожарником, космонавтом. Но никак не бомжом.
Его детские мечты, надежды загадились об реальность, превратились в рутинную охоту выживания.
А солнышко, чудное солнышко, разбудило мечты его, одарило силой надежду…
Пришла тучка, совсем маленькая, солнышко спряталось.
И чё я тут расселся, делов куча, а я…
Я иду по улице, по улице, освещённой Солнцем
СкрытьВремя - миниатюра, 05.06.2015 17:12
А что время? Река. Кто-то плывёт на худой лодочке: заливает вода — захлёстывают события. Но если не опускать руки, не отчаиваться, то можно вычерпать воду — поправить судьбу.
Кто-то плывёт в крепкой ладье: малое волнение не тревожит пассажиров. А бури, революции… Они не так часты, да и если что, можно переждать на берегу.
Плывёт, качаясь на волнах истории, трамвайчик. Тесно, шумно. Не слышно реки, — если только прислушаться. Да разве услышишь… Везёт тебя трамвайчик с толпою, её не перекричишь. По молодости пытался: свои идеи, свои взгляды. Спорил, кричал до хрипоты, с надеждой что услышат. И сейчас кричишь, только не заметил, что уже вторишь толпе. И не до реки, её берегов — летит время незаметно.
Лайнер — с его кинозалами, ресторанами, караоке, казино и бизнес, — режет водную гладь: такому и буря не страшна. Что ему время: плывёт гордо, разметая мелкую посудину. Белоснежный, нарядный, музыка, огни. Пассажиры смотрят на реку «свысока», не то что мелкую рябь, порой и волнения не заметны.
А в трюме люди, другие. С утра до вечера трудятся: садик, школа, свадьба, дети, внуки, родители, поликлиника, дача, пенсия. Ни минуты свободной. Ни минутки Свободы.
Пронеслись мы по реке, длиною в жизнь.
P.S. Данный текст самостоятельно сочинила маленькая программка. С её разрешения публикую от своего имени.
СкрытьЯ верую… - миниатюра, 09.11.2013 21:50
— Подождите, мама. Неужели вы не видите?
— Да мне бы дочка…
— Помолчите, ради бога…
Свечка перед иконой, постоянно вспыхивая, пыталась погаснуть. Но, не совсем молодая женщина, с покрытой в косынку головой, в промежутке между поклонами снимала воск, прилипший же к пальцам, сбрасывала на пол. Уже минут двадцать, как она разговаривала с богом: частыми поклонами, тихим бормотанием молитвы и быстрыми перекрестиями.
Рядом с молящей, в кровати, старая женщина. На краю кровати утка с отбитой ручкой.
— Дочка?
— Ну что ещё, мама?— быстро перекрестившись, ответила молящая, — Потерпите.
Ещё минут двадцать продолжалась молитва. Поцеловав икону, женщина повернулась к матери:
— Ну вот видите, мама, вы и сами прекрасно справились.
Мать ничего не ответила, лишь быстрым движением прикрыла мокрое место одеялом.
— Мама, я вам приготовила кушать. Сами… Мне в церковь…
— Ты меня покормишь, дочка? Мне тяжело.
— Мама, миленькая, вы же не маленькая.
СкрытьБабушка - миниатюра, 09.11.2013 21:36
Бабушка говорит, что люди не умирают: они уходят в другой мир и живут в нём вечно. Она приготовила вещи, спрятала в старый коричневый чемодан и строго настрого запретила его трогать.
— Забудешь, внучек, что обратно положить и буду там искать, тебя ругать.
У нас много чемоданов, сумок, мешков. У бабушки чемодан старый, крышка кривая, дно продавленное. Поменял я ей чемодан: новый, замочки блестят и ключик есть. Бабушка заметила быстро, переложила вещи, подозвала вечером.
— Зачем мне новый, дорога недлинная, потом будет валяться. Вот ты в школу пойдёшь, куда книжки класть?
— Баба, у меня ранец, с чемоданами в школу не ходят.
— Ну и что. А вдруг куда поедешь — понадобится.
— Баб, ведь у тебя всё новое, а чемодан старый…
— Ох, внучек, в гости куда — одеваешь всё новенькое, чистое. А я к боженьке, да не в гости — жить.
У бабушки на тумбочке лежит много разных таблеток, пузырьков. Пользуется ими часто. Даже в потрёпанной сумочке лежат её лекарства. Радикуль — так бабушка ласково называет сумочку. У дяди Стёпы заболит спина: охает, ругается, говорит: радикуль разыгрался. И я понял — все сумочки с лекарствами называются радикулями.
Вот только бабушка ничего не положила в чемодан из радикуля.
— Почему, бабушка?
Когда бабушка всё объяснила, боженька приснился мне в белом халате, без радикуля и градусника. Не помню, о чём говорили мы, помню только, что я старался казаться взрослым и совсем уж сердитым голосом попросил бабушку не обижать.
СкрытьРемень - рассказ, 09.11.2013 21:09
Учитель у меня строгий. За малейшую провинность, а часто и без неё, он начинал учить меня жизни. Фразы его короткие, хлёсткие. Долгие «уроки жизни» я переносил болезненно, с криками, слезами. Имя учителя простое и легко запоминается: Ремень. Обычная кожаная лента, с шестью дырочками и, слава богу, с немассивной бляхой. «Говорил» он со мной о плохом поведении, о непослушании, о любви. Тем много и беседы, особенно летом, велись часто.
Хозяин ремня, мой отец, мужик крепкий — смотрел на жизнь философски: «Ещё благодарить будешь». Родители не врут. Да, наверное, но слова о благодарности ремню я принимал за ложь.
Мне пять лет. День рождения. Много гостей. Меня поставили на табурет читать стихи. Трижды перебивали тостами, дважды расспросами о подарках.. Не прочитав и половины, я слез с табурета и ушёл в другую комнату. Мне показалось, что никто не заметил моего ухода. Да, действительно, именинник был забыт. Но вечером учитель Ремень напомнил о своей наблюдательности.
Мишка, мой друг и сосед по двору, любил папу. Он рассказывал о нём удивительные истории. От Мишки я узнал, что Василий Петрович был и пожарником, и танкистом, сбивал врагов на истребителе, спасал людей на земле, воде и воздухе. Его папка герой, только космонавтом…. Нет, конечно, его хотели взять в космонавты — но водка… Василий Петрович гулял по-чёрному: неделю, две, а то и месяц.
У Мишки семья небольшая — он да отец. Маму Мишка не помнил и сильно завидовал нам. Во время болезни отца (Мишка не признавал слово «запой») жил Мишка у соседей. В моём доме нет: мой отец и отец Мишки почему-то были врагами. Несколько раз на дню Мишка бегал домой проведать папу. Весь двор знал Мишкину «слабость» и старался не замечать её — страха смерти отца. Мы, его сверстники, да и взрослые, поняли: Мишка помнит смерть мамы — где-то глубоко, неосознанно.
Мишка не знал побоев. Василий Петрович любил Мишку и никогда не бил его. Однажды, будучи пьяным, мой отец встретился с Мишкиным отцом, не «больным»:
— Зачем сына бьёшь?
— Мой сын, хочу и бью, — ответил мой отец.
— Да был бы твой…
Хотел продолжить Василий Петрович, да кашлянул Мишка.
Я привык к дворовым слухам и не обращал на них внимания. Один из слухов: мой отец не родной. Чушь. И Мишка говорит — не верь. Много позже, слух подтвердился и оказался правдой. Порой, соседи знают о нас гораздо больше. И Мишка знал, молчал. Но я уже не могу сказать ему «лгун», и не хочу.
Мишка считал злым не отца, а водку. И когда мы подсчитывали добрых и злых людей чёрточками на стене, Мишка поставил «злую» чёрточку не отцу, а его беде — болезни. Слово «алкоголизм» Мишка также не признавал.
И я завидовал Мишкиной любви, учился любить и прощать.
Мишка не любил когда его жалели, но умел жалеть сам. Задерётся у меня рубашка, заметит он красные полосы на спине от «уроков», спросит тихо, испугано:
— Больно?
Поначалу я бахвалился своими ранами. Когда узнал Мишку поближе, научился отвечать коротко:
— Терпимо.
Ещё позже:
— Нет.
Мишка старался услышать все наши рассказы о матерях, мам и мамок. Всегда слушал молча и не требовал продолжений. И я рассказывал ему о своей маме. Только хорошее, доброе.
Мама никогда не спорила с отцом — бесполезно. Во время «уроков» мама старалась прикрыть меня своими руками. Её руки, маленькие, худые, получали от ремня не меньше. И заживали намного дольше. Нет, не заживали, слишком часты были «уроки».
Но я не мог рассказать Мишке, что мама спасала от ремня и другим способом — горячей водой. Сажала меня в ванну, включала «красный кран» и поливала из душа. Мамино наказание порой отменяло ремень.. Если нет — ремень становился ещё больней. Но и руки мамы знали горячую воду.
Этого Мишка не знал и я тщательно «изобретал» причины ожогов.
Я боялся отца, я боялся ремня. Но не могу же я всех бояться. И этот страх изменялся в умение искать и видеть доброе во всём. Поэтому у меня сохранилась любовь к отцу — он умел быть добрым — папой.
СкрытьМишка - миниатюра, 09.11.2013 20:33
Никто Мишку не называет Мишей — Мишка и всё. Может из-за его медвежьей походки, а может и за случай с медведем:
В наш город приехал цирк. Приехал с цирком и белый медведь. Лето жаркое, без дождей: белая шкура медведя пожелтела, извалялась. Из воды он вылезал редко — только чёрный нос в бассейне и видно. Никому медведь не понравился — ни разглядеть, ни покормить. У медвежьего вольера надолго не задерживались, спешат к слону. Слон опустит хобот в ведро, потом поднимет и поливает себя как из душа. Мы старались попасть под слоновый дождь и, счастливые, хвастались мокрой одеждой. Только Мишка не ходил к слону.
— Где Мишка?
— Как всегда, у медведя.
Мишка прижмётся к ограде — ждёт.
— Забор сломаешь, — подошёл к Мишке цирковой служитель. — Видишь, как измаялся, жарко ему.
— А если, дяденька, льда насыпать? Он же северный, не замёрзнет?
— Вот возьми и насыпь, — отшутился цирковой.
Мишка иногда бывает слишком серьёзным, не понимает шуток, и принял за совет. На следующее утро в бассейне появились две льдинки. Потаяли быстро, но медведь успел поиграть со льдом. Мишка стоит весёлый:
— Айда к слону.
Ещё два утра появлялся лёд в вольере.
Мишку поймали ночью. Оказалось, с овощной базы он таскал лёд медведю. Перекинет лёд через ограду, перелезет сам и к бассейну.
— Что же ты делаешь, паразит, он ведь тебя съесть мог.
— Не, дяденьки, я ночью, когда медведь спал, — отвечает Мишка.
Цирковые ходили в Детскую комнату милиции спасать Мишку. Но женщина в погонах постоянно ругалась, называла Мишку вором и поставила на детский учёт.
Сижу с Мишкой на школьном заборе, болтаю ногами. Мишка рядом насупился, хочет что-то сказать, да боится.
— Мишка, хватит дуться.
— А я и не дуюсь.
Всё же не выдержал, стал рассказывать:
— Мамка мне приснилась. Разговаривала. А о чём, не помню.
— Совсем ничего?
— Ничего.
— Ругалась?
— Она у меня никогда не ругается, — злится Мишка — просто разговаривала.
Странно: у меня есть мама, у Мишки нет — Мишке мама снится, мне нет.
— Мишка, ты только не обижайся, какая у тебя мама? Красивая?
— Дурак ты, Генка. Все мамы красивые, даже у Стаса с Вовкой.
У Стаса мама маленького роста, лицо обожжено кислотой (авария на заводе). От Вовкиной мамы всегда все шарахаются — вместо лица висят голубые кисти какой-то заразной болезни. Тётя Лена, Вовкина мама, уже привыкла к косым брезгливым взглядам, Вовка же постоянно дерётся со всеми и переживает за «взгляды».
— Только я свою маму никогда и не видел. — Мишка говорит тихо, с обидой. — Даже во сне.
— Ты же говорил…
— Ничего я не говорил, — Мишка говорит зло, отрывисто, — вместо мамки пятно белое. Хочу разглядеть — не получается. Нечестно.
— Когда я вырасту, у моих детей будет мама. Обязательно будет. — Не любит Мишка жалости к себе, поэтому сказал весёлым голосом, только спрыгнул с забора неуклюже.
СкрытьМного меня - миниатюра, 28.10.2013 13:38
Человеку свойственно носить маски.
Для его безопасности; соучастия; сокрытия; дружбы и любви. Для веселья и грусти.
Он часто говорит; как я понимаю тебя; я с тобой; да поймёшь ты меня, наконец; да заткнёшься ты…
Он меняет маски на уровне инстинкта, не замечая, не раздумывая. Дома один, на улице другой, на работе третий.
Господи, кто я! Настоящий! Какой я?
Человеку свойственно меняться.
Если ему плохо — плохо Миру. Глаза его, полные печали видят только печаль. Прекрасное, Доброе невидимо. Может оно и рядом, но как далеко…
Мы можем навалиться на него всем скопом — посмотри — мир прекрасен, он полон любви, счастья.
Он не слышит нас. Хоть и кричим. Через маску. Для убедительности меняем их.
Идёт мимо человек, задумался о чём-то. Болтаются маски за ненужностью. Увидел смешного карапуза, или щенка, может ещё что: улыбнулся, захотел коснуться увиденного.
Как же хочется, чтобы сейчас не было никого — любой маски, никакой. Чтобы коснуться, коснуться НАСТОЯЩИМ.
В такие моменты мы слабы, в такие моменты нас можно уничтожить.
Господи! Почему так несправедливо? Почему Искренность моя — погибель моя?
Молчит Бог, не слышим Его через маску гнева.
Улетают Ангелы, прилетевшие на зов Искренности.
Многогранна Душа Человеческая.
Для Соучастия; Сокрытия; Дружбы и Любви. Для Веселья и Грусти.
Она часто говорит; Я понимаю тебя; Я с тобой; поймёшь ты меня, услышишь; не молчи о Любви…
Каждая грань Души бесконечна. Дома, на улице, на работе.
Господи, кто я! Настоящий! Какой я?
За что одарил Душою Моей?
Улыбается Бог, смеются Ангелы.
Смеются Ангелы детским смехом, улыбается Бог глазами родителей наших.
СкрытьДни рождения - миниатюра, 07.09.2013 10:04
Я принадлежу к классу самых богатых: учителям, воспитателям, многодетным — у меня двадцать четыре дня рождения в году. Я руководитель кружка в интернате. Восемнадцать мужичков и шесть девчушек. По своему простодушию я считал их самыми несчастными, самыми несчастливыми. Мне казалось, что Жалость спасёт Мир, а Красота лишь верный помощник. Мне повезло: мужички оказались снисходительны, девчушки терпеливы.
Первый день рождения застал меня врасплох — на верстаке, среди железок, выросли две кремовых розочки — пирожное. Юные «садоводы» прознали о моей дате.
Второй день рождения, через две недели, я испортил. Васильку, самому младшему, купил торт. «Первый снег» — последний семейный торт Василька, и я невольно вторгся в его святыню — память о семье.
Порой мне кажется, что сердечки моих подопечных заросли чёрствой коркой, огрубели. Их сердца могут ровно отмерять ритм жестоких событий, равнодушно созерцать и создавать зло. Может, потому их сердца обладают странной особенностью — помнить и хранить даже самую маленькую доброту, искреннюю улыбку. День рождения мамы, день рождения папы — давно пропавших, исчезнувших, бросивших — помнят и празднуют — без тортов, салютов и прочих помпезностей. Даже Коля, жестоко возненавидевший своих родителей, помнит их даты.
Юля, тринадцати лет, никогда никому не скажет, что в этот день праздник мамы или папы. Но я знаю о нём, знаю и то, что Юлька совершено случайно угостит сегодня конфетами. И я, также случайно, приму её гостинец.
Серёжка не знает своих родителей, не знает когда родился. Конечно, в метрике стоит дата. Пожалуй, это единственное число, не признаваемое Сергеем — почему? У Серёжки много шутливых объяснений. Настоящее? — подскажите, как мне описать его глаза, движения души…
Поймал себя на мысли: « хочет вызвать жалость» — скажет какой-нибудь читатель. Нет, не хочу. Я уже обжёгся с такой «жалостью», она действительно унижает человека, пусть он и маленький.
А вот Коля не празднует — принципиально. Мало того, поначалу не менее принципиально покидал праздники. Постепенно, «день за днём», видно оттаяло сердечко, дни «варенья» тоже стали его праздниками. И мне очень хочется побывать на его родном Дне Рождения.
P.S.
Серёжкин день рождения мы празднуем четыре раза в год: каждый сезон. Так что я ещё богаче.
СкрытьКрест - философия, 20.10.2012 11:20
Давно это было.
Так давно, что не было людей. Но не так сильно — в рождении Земли.
Какой-то космический странник, сделав привал, оставил крест. Большой каменный крест. Его белизна и могущество смеялись над силой природы. И эта белизна и могущество преклонили колени перволюдей… Нашли ему применение. Поливали кровью дичи, кости мамонтов ломались о его углы. И первый топор из того же камня проверялся на нём.
Ах, если бы кто-то пригляделся к нему, то увидел бы маленькую, еле заметную трещину у основания.
Но то было время крови. Она затемняла белизну камня, оставляла ржавые свои следы и не давала понятия о начале разрушения.
Проходили века, меняя шкуры на одежды средневековья. Трещина росла, стала бросаться в глаза. Да и как ей не расти, если каждый хотел узнать его природу. Сперва руками, потом лопатами — копали его основание…
Пришли богословы и сделали его символом Земли. Пришли философы, и сделаю символом Мира. И начавшее было всеобщее пированье перешло в битву. Богослов и философ стали врагами. Борясь — опирались на сей символ. Опирались столь безумной силой, что крест родил ещё множество трещин и трещинок.
Каждый из них, поклоняясь, приносил свою дань. Дань кровью и головою противника.
Каждый из тех воинов рыл почву под камнем креста. Со злостью, мешая друг другу, искали одно. Основу. Начало креста. Думая, что то начало есть и начало мира.
Стал крениться крест. Ужаснулись все, услышав хруст камня.
И тогда решили: любого посягнувшего — казнить. Казнить лютой смертью, чтобы другим неповадно было.
Казнили здесь же — на кресте. Чтобы понятно было, в чём вина казнённого.
Пролитая кровь, кипевшая в огне «очищения», лишь дала недоумение многим.
Тогда остановились палачи… и снова стали богословами и философами.
Идёт время, призывая рыцарей к бою. Приходят к кресту, правят латы на нём, точат мечи о камень, берут ядра с него — для новых боёв во имя веры в крест.
Первое копьё, первое ружьё ковалось на том кресте. Огонь мартен сушил камень, убивая его, ослабляя.
Пришло другое время. Время, где штыком опёрлись в него. И не разрушив, забыли о нём.
Время, где дорога к кресту стала зарастать. И он забытый… отдыхал, но только не трещины.
Спёкшая кровь в них набухала, ломала. Ломала с силой грома.
Был услышан тот раскат. И снова, но уже и учёные, пришли и стали латать его,
Надевали хомуты, надеясь остановить камень. Заливали наукой, веря в крепость клея.
Никто не знает, что вышло бы из того. Но только пламя огня, бьющееся из сопел ракет, зацепило камень.
И тогда трещина стала владеть крестом. А значит и Миром.
Раскололся крест, раскололся надвое. Одна половина, охваченная огнём, горела такой силой, что осветило ярко второй обломок.
И все мы, не видевшие огненной половины, но увидевшие освещённый кусок, взмолились ему:
«Смотрите, как ярок этот камень. Смотрите, каков огонь и какова его сила»
А виновник огня и наших молитв, первый кусочек креста, принёсший и огонь и свет, был не замечен нами, потому и — забыт.
И не поняли мы, что кусок тот горел тем огнём, что накопил за века. И не ведаем, что накопил он и крови, нашей крови, что прольётся потопом.
А если бы увидели, то ужаснулись бы, как обломки того креста придавили нас. Наш мир погребён под камнями.
И лишь что-то кричит нам, но мы если и слышим, то не верим тому: Смотрите, идёт космический странник, давайте дадим ему приют. И быть может, отдыхая, уберёт обломки те, и, уходя, оставит новый крест нам.
Но мы не верим, не видим того странника. Поклоняемся холодному камню, не ведая, что свет его лишь отражение пожара первого кусочка, и капли той крови принимаем за святую воду,
Аминь нам.
СкрытьПоляна - рассказ, 20.10.2012 11:17
Город ложился спать. Солнце устало светить и, покрасив облака красным, уступило место полной луне. Та, ликуя, залила светом все переулки, нарисовала чудные тени на детской площадке, и тихо заглянуло в тусклое окошко. В тесной комнате с разбросанными игрушками стояли маленькая кроватка и старый комод. Его давно немытые стёкла, радуясь свету, разбросали лунные зайчики. Пёстрые занавески шевелили их и оживляли.
— Мама, расскажи сказку. — Малыш, держа руку матери, ожидает что-то страшное, но обязательно с хорошим концом.
— Спи. Уже поздно. — И, не давая возразить, добавила. — А то бабайка заберёт.
Когда в комнате темно, по стенам бегают тени, скрипит старый комод — так и жди бабаек. Лучшее спасение — уснуть рядом с мамой. Малыш зажмурил глаза, да посильней, услышал «не балуйся», вздохнул печально и повернулся на бочок. Что-то пробурчал о взрослых и уже вслух:
— Да мама, сказки все любят, а тебе ни одной не расскажу.
— Спи! Ещё рано на мать орать.
Малыш засыпал, мечты о взрослой жизни становились вялыми и, наконец рассыпались. Последняя, о матери, «расскажу, но чуть-чуть» усыпила мальчишку.
Мать встала, улыбаясь поправила одеяло, подошла к окну, посмотрела на луну. «Какая большая, видно не к добру» — и задёрнула занавеску.
…Мужчина и женщина, стройные, во всём белом, шли по ночному городу. Им некуда спешить. Часто останавливались, смотрели на спящий город, на звёздное небо. Когда свет фонарей мешал, смеясь отбегали в темноту и уже долго, пристально разглядывали маленькие искорки. Запоздалый прохожий удивлённо посмотрел на них, на небо. Подумав «влюблённые», вздохнул и двинулся дальше. Молодая пара, заметив его недоумение, рассмеялась. Женщина взглянула на спутника: «Похоже?» — Мужчина ответил: — Да».
Поравнявшись с домом, где мать хлопотала на кухне, остановились. Женщина прижалась к мужчине и тихо спросила:
— Здесь?
— Да.
— Он ждёт нас?
— Нет. Он ничего не помнит.
— Ничего? Как странно, столько много и забыть? Так не бывает…
— У людей короткая память, потому и живут так.
— Сколько ему сейчас?
— Пять. Снова ребёнок.
Они подошли к скамейке, сели и долго молчали. Наконец она вскинула голову:
— Может рано?
— Нет. Мы пойдём к нему. — Твёрдо ответил мужчина.
— Здравствуй малыш! — широкая мужская ладонь спрятала маленький кулачок.
— Дядя, ты не бабайка?
— Нет, малыш. Я твой друг, а бабаек не надо бояться.
— Я не боюсь. Только мама будет ругаться.
— Не будет сынок, разве я похож на бабайку?
— Непохож. А друзья бывают большими?
— Бывают.
— Честно?
— Честно.
— А тёти тоже бывают?
— Да, и тёти тоже, — женщина улыбнулась, протягивая малышу руку — будем с тобой дружить?
— Будем! — малыш хлопнул ладошкой по протянутой руке.
— Пойдёшь с нами?
— Пойду. — И тут же: — Не-е. Нельзя. Мама будет ругаться.
— Глупенький, мы же тебе снимся. Вставай скорее, мы с тобой полетим…
— Папа говорит — люди не летают.
— Разве? А что ты делал вчера?
— Ну, это же во сне! Я росту, так папа говорит.
— Летим? — мужчина взмахнул руками.
— Только недалеко, хорошо?
— Согласен малыш.
— Я не маленький. Я парень. Большой.
Печальная улыбка скользнула по лицам взрослых, но малыш не заметил её, высоко взлетая в небо.
Зелёная земля была прекрасной. Разноцветные цветы, густо разбросанные по полю, радовались ласковому тёплому солнцу. Воздух звенел птицами, причудливыми облаками и звонким детским смехом. Мужчина и женщина улыбались ему, махали руками в ответ и на постоянный вопрос «Можно?», отвечали «Да».
Малышу хотелось всё: поваляться на земле, обнюхать жёлтым от пыльцы носиком все цветы, покупаться в ручейке.
— И мы были такими, помнишь? — спросила женщина.
— Да… и множество раз.
С криком «Ура» малыш подбежал к взрослым:
— Здорово! А можно я буду прилетать сюда часто-часто?
— Можно сынок. — Ответили ему хором.
Прошёл суматошный день. Множество подарков, поздравлений и песен, пирожных и воды, чувство зрелости (а как же — десять лет) не дали сразу уснуть имениннику. Но, сон взял своё, всё растаяло, кануло, превратилось в обрывки лиц, учителей, друзей, книг и кино. Чёрно-белое превратилось в цветное — снова стояли мужчина и женщина. Слегка постаревшие, грустные:
— Летим?
— Как давно я вас не видел. — Обрадовался мальчишка.
И снова был полёт, и снова была поляна. Но уже спряталось Солнце, грозовая туча повеяла холодом и дождём. Цветы съёжились, спрятали свои лепестки. Первые капли спугнули птиц, но развеселили малыша. Раскинув руки, он ловил дождинки, пробовал на вкус. Грязный, чумазый, но всё же счастливый, подбежал к друзьям:
— Промокнем. Пойдём спрячемся?!
Женщина грустно ответила:
— Да, конечно, — и тихо мужчине, — растёт?
Диплом обмывали всей группой. Хмель бросил его на кровать и тут же усыпил.
Поляну заливало дождём. Тяжёлая вода избила безжалостно все цветы, размыла и превратила их в грязь. Бетонные дорожки дрожали туманом, не давая опоры. Какая-то стройка разбросала плиты вокруг, придавив множество цветов.
Мужчина, обняв женщину, что-то шептал ей. Она смотрела на цветы и отвечала: «Он забывает свои мечты»
Юный инженер рассматривал взрослых с любопытством и нетерпением. Он не хотел этой поляны.
Седой пятидесятилетний мужчина ложился спать. Проверив будильник, укрылся одеялом и, тяжело дыша, устраивал планы на завтра. Но сон быстро перекинул его на старую поляну.
Огромный, чадящий гарью завод занял её более половины. Остальное было залито бетоном и шлаком. Мужчина встряхнул головой: что-то далёкое, детское, всплыло и окрасило поляну зелёным. Солнце на миг осветило весёлых птиц, ещё молодых друзей и …снова завод и бетон.
Поодаль стояла пара. Она внимательно следила за мужчиной. Женщина тихо смахнула слезу:
— Малыш, ты помнишь?
И тут же он проснулся. Какое-то воспоминание встревожило его, забилось сердце.
— Надо же, приснится чёрт знаешь что…
— Как хорошо, не надо на работу… — последняя мысль уснула вместе с хозяином.
Снилось странное место. Поляна, полная пеплом. Даже Солнце из пепла, Малейшее движение поднимало его, забивало нос, и тяжёлый кашель поднимал уже тучи золы.
— Кто Вы? — спросил старик мужчину и женщину.
— Может вспомнишь нас?
— Всех не упомнишь. Что за это место, подскажите?
Мужчина, взяв женщину под руку, стал подниматься в гору.
Женщина плача умоляла его:
— Скорее, скорее. Он ничего не помнит. Как странно, столько много …и забыть.
— У людей короткая память, потому и живут так. — Тихо отвечал мужчина.
СкрытьОпоздание - миниатюра, 20.10.2012 11:10
Стукнулась земля. Рассыпалась. Разбросала себя по красной площади. Цвет крови резанул глаза, наполнил слезами. Задрожали руки, сжали ком земли, не пускают его. Он же проходит сквозь пальцы, — тонкой струйкой меняет красное в серое.
— Бросай, милая, бросай.
Раскрывается рука, но пустая уже, только пыль. Да слёзы в глазах. Страх, боль, любовь — ушло всё в слезу, скатилось по давно солёной щеке.
Ещё горсть, её, последняя. И много горстей чужих. Страшен звук земли, бьёт гулко, больно. Словно и нет ничего в яме. Пусто в душе, пусто везде. Не слышит вдова, не видит. Спрятался мир в слезах, превратился в боль, никчёмность, бездну. Сжался в маленький комок сердца, заполнился горем.
Стучат лопаты, носится по рукам стаканчик. Быстро наполняется он, опустошается со словами: «земля ему пухом». Крестятся руки, опускаются плечи, равняют лопаты. Уже нет бездонной могилы — холмик. Ложатся на него венки, ставится крест. Цветы, когда-то живые, покрывают землю подломленными головками. Свёрнуты их тонкие шейки, чтоб не украдены были, не проданы. Уже связаны венки от ветра.
— А номерок, номерок не забыли?
Нет, не забыли. Спрятался позади креста — боится больших цифр, что несёт в себе. Тысячи могил, холмиков, крестов, полумесяцев, звёзд, оградок. Лица с маленьких фотографий смотрят на нас — живых. Но окованы лица в рамках, проставлены даты, пронумерованы. Спрятаны в землю. И нет у них завтра, только сегодня, только сейчас.
Лишь трава непокорна, неподвластна остановленному времени, — буйно разошлась по могилкам. Вроде бы и живая, а приводит в уныние. Вроде бы и борется со смертью, да только усиливает печаль сырой могилы.
Обнажённые, без тела, разлетелись души по миру. Приходят в когда-то родные дома, пригубят заботливо поставленное для них угощение и тихо присядут промеж поминающих. Пройдёт их печальный праздник и улетят они в неведомость.
Почему при жизни не дарились живые цветы? Почему собрались друзья только по печальному поводу? И много хорошего сказано умершему — не живому. Зачем мы ценим только потерянное?
Опоздали наши признания любви, опоздали.
СкрытьВ тени горчичного дерева - миниатюра, 20.10.2012 11:09
Возлежав в тени горчичного дерева и вкушая плоды его, рассуждал я о путях Господних. И, вкусив сладость рассуждений, возжелал о тайных дорогах Господа. Исповедуя гордость знаний, хотелось мне раскрыть тайны великие. И, веруя в божественность, снять покрывала с них, — тем подняться на высоты, что казались моими. И молил Господа о доверии мне знаний духовных. И наукой искал силу их, чтобы бисер, брошенный свиньям, был замечен и принят ими. Виделось мне, что каждое слово моё каплею пустыннику, уста же — колодец с водою священной. Приходили ко мне раннее жаждущие, но пуста была чаша моя. Ныне, имея знаний духовных, пролил бы дождём не только дома, но и дворы их. И не видя конца сил, имел колодец бездонным. Мечты мои открыли небеса пред мною. И окрылившись, что буду узнаваем и радостен Богу — оглядел мир поверху и силой могучей укрыл от бед и печалей.
И услышал я: «Не ты ли это, Господи?».
Тогда открылись глаза мои, туманные грёзами. Истинно говорю: Ангел стоял пред мною. И смеясь, вторил: «Не ты ли это, Господи?».
И тогда устыдился я, остановились мечты мои, и рухнули звонким смехом грёзы.
СкрытьИскренность - миниатюра, 20.10.2012 11:05
Учитесь искренности во всём. Особенно творящему зло. Тогда познаете глубину падения. Тогда ярче черты деяния. Тем сильнее признак Души. Тем яростней борьба глубинных затаённых мыслей.
Остальное похоже на волнующее море. Вверху ураган, шторм, разбивающий скалы. Но дно остаётся тихим.
Так и глубина твоя в тишине, и битва снаружи ложна и бесконечна. Ибо корни её остаются не потревоженные.
Будьте искренны в творении добра. Иначе дарите ростки, не имеющие корня. И как срезанная роза — придёт увядание.
И её величественная красота отдастся в дар смерти.
Ищите начало. Там корень всех творений. Мысль не рождается в пустоте, и никакие усилия не уничтожат её сорняк, если не потревожены корни.
Найдя и вырвав, не оставляй грибницы пустой, посади добрый злак. Иначе останешься в пустыне или зарастёшь бурьяном.
СкрытьГлава 2 В больнице - повесть, 07.10.2012 10:01
— У нас ни горшков, ни сосок…
— А ты, Миша давно ли вырос? — Галина Фёдоровна ведёт меня к заправленной кровати возле окна.
Миша сидит на своей, ногами тапки по полу гоняет:
— Чур, из ложечки кормить не буду.
— Дылда — не выдержал я, ещё и язык показал.
Мишка кулак выставил, глазами пугает. Галина Фёдоровна заметила, улыбнулась, подмигнула мне:
— Не бойся, он тебя не тронет: у него братик младше тебя.
Мишка кулак убрал, отвернулся. Галина Фёдоровна сдвинула одеяло, хотела посадить меня на кровать, глянула на Мишку, спрятала руки за спиной. Хоть и взрослая, а поняла, как от лишних насмешек избавить. Если бы не Мишка… ладно, сам заберусь, не маленький.
— Место у тебя хорошее, окошко рядом. Так что скучать не будешь. — И уже Мишке: — В палате за старшего, если что, с тебя спрошу.
Мишка повернулся к Галине Фёдоровне, растянул рот до ушей: «Есть» — и честь отдаёт.
— К пустой голове руки не прикладывают, — одну руку держу на макушке, другой Мишку передразниваю.
Галина Фёдоровна повернулась:
— Не умничай, — сердито, и тут же с улыбкой — поладите.
— Ну, и сколько тебе?
— Чего сколько? — делаю вид недотёпы.
— Не придуривайся. Интересно просто, — Мишка подошёл к кровати, посмотрел в окно, присел рядом. — Мне десять, почти десять. У меня день рождения шестого июня.
— Врёшь! — я аж подскочил. — Я в этот день родился, а не ты. Врун!
— Ой, ой, ой. Ты думаешь, только один и родился в этот день, умник. Скажи, сколько дней в году, а?
— Тыща, — я набычился, выпалил громко. — Оно мне надо? Сколько дней…
— 365 или 366. А сколько ты сказал — не бывает.
— Сам не знаешь, а меня учить собрался, — его гадание меня успокоило.
— Ладно, пусть по-твоему. — Мишка будто не заметил моей сердитости, пошёл на мировую. — А всё же, сколько тебе? Шесть? Или семь?
— Пять, — теперь моя очередь не замечать его тона.
Мишка смотрит, улыбается:
— Значит, в НАШ день рождения мне будет десять, а тебе шесть. Так?
Блин, получается, я врун, а не он. Он сказал — ему почти десять, а я…
— Не так. Мне будет пять. Пока четыре с хвостиком.
— Хвостик уже большой. — Мишка говорит серьёзно, — Давай краба, — и протягивает руку.
— Нет у меня никакого краба, — я насторожился. — Ничего у меня нету.
— Глупенький, так говорят, когда хотят друг другу руки пожать.
Слово «глупенький» получилось у него без сюсюканья, просто, не обидно.
Я рассказал ему о болезни — пневмонии со всех сторон, о злосчастной радиоле. Рассказал бы ещё что-нибудь, но в палату стали возвращаться с обеда остальные мальчишки. Со всеми перезнакомился. А Мишка и правда, врун: Серёжка старше меня всего-то на годик. Ему что, тоже соска нужна? Но злился я недолго: почти нисколько.
Только успели познакомиться, пришла няня, погрозила пальцем: «Спать, немедленно и непременно». Тётя на вид грозная, я даже испугался, спрятался под одеяло с головой, затаился. В палате стало тихо, слышно лишь чьи-то мягкие шаги.
— Нельзя, сыночек, с головой укрываться, — тёплые руки няни поправили одеяло, пощупали лобик. — Чем дышать будешь?
И снова грозным голосом:
— Спать, а то горячие уколы принесу.
Я посчитал десять раз по десять (ну сжульничал, совсем немножко), открыл глаза, думаю, ушла няня:
— Миш…
— Спать, я сказала.
Оказывается, няня сидит за столиком, читает книжку. Ничего не поделаешь, буду лежать. Спать совсем не хочется. Вот только зажмуриваться устал, глаза сами открываются.
Если Мишке десять лет, мне пять, значит, Мишка старше меня на целых два раза. Проверю на пальцах: моих годков хватило на одной ладошке, а Мишкиных на двух. Точно — ровно на два раза он «больше».
— Тётя няня? — говорю шёпотом, вдруг и правда кто спит.
— Не шуми, разбудишь. Сейчас подойду.
Няня подошла, присела на краешек кровати:
— Вера Михайловна я. Запомнишь? Ох, что это я, так официально, тётя Вера. Понял?
— Няня Вера, я запомню.
— Какая же я няня — Серёжи Голубцова мама. Вон того, белобрысого, языкастого.
Почему языкастого я понял: Серёжка язык нам показывает, тоже не спит. Задумал к нам перебраться, но няня, ой, тётя Вера, коротким «цыц» уложила Серёжку под одеяло.
— Тётя Вера, а семьдесят это много?
— Смотря чего. Если мороженое, даже обжоре много.
— Годов.
— Семьдесят годов? Наверное, много. Мне и половины ещё нет, а смотри, какая старая.
— И совсем вы не старая. Ещё в соку.
— Ка-ва-лер. Где же ты таких слов нахватался? — тётя Вера сердится понарошку.
— У нас в доме дядя Саша так говорит. Он вредный, с ним никто не дружит.
— Точно вредный, а ты как попугай, всякие гадости за ним повторяешь.
Если честно, то я не знаю, что за «гадость» сказал. Сейчас не это главное:
— А два раза по семьдесят очень много?
— Сто сорок лет?
— Да.
— Много, очень много.
Да, плохо дело. Если я правильно понял, то буду ещё как Матрёна, а Миша…
— Тётя Вера, а сто сорок годов люди живут?
— Не знаю, не видала. Врать не буду. Подожди, а зачем ты расспрашиваешь, неужто помирать собрался?
— Ничего я не собрался, просто так спрашиваю, — голос у меня задрожал, вот-вот слёзы появятся.
Тётя Вера наклонилась, поцеловала в щёчку, потрепала ёжик на голове, «спи, малыш».
Хочу стать взрослым, а всё не дают. И чего меня целовать как маленького. Ворчу, а сам бы и другую щёчку подставил…
Мишка хитрый, построил гору у своего аэродрома, попробуй, облети. У меня самолёт сверхновый, ИЛ сто тысяч; только рулить не получается. Ставлю карандаш как Мишка, нажимаю правильно. А самолёт летит в гору:
— Всё, Генка, ты разбился. Я выиграл.
— Гад ты, Мишка. Ты в меня ни разу не попал, — так не считается.
— Как договаривались… — Мишка лыбится, мой самолёт карандашом зарисовывает.
— Я с тобой проигрывать не договаривался. Я тоже гору нарисую, побольше твоей.
Мишка ещё хуже лыбится:
— Смотри не перестарайся, а то со своего аэродрома не вылетишь.
— А своя гора не считается.
Везёт Мишке, не успел ему рассказать о его душонке, пришла Вера Михайловна.
— Ну что, друзья — не разлей вода, воюем? И кто победитель?
Мишка в меня пальцем тычет: — Он.
Ну и ври, мне лучше, встаю со стула, кричу гордо:
— Я у него, няня Вера, мильон раз выиграл — са-ла-га…
Мишка ржёт, Вера Михайловна тоже смеётся: ну и пусть, стану великим лётчиком — будете потом прощения просить.
— Я зачем пришла-то, нашла денежку у ваших кроватей. Не ты, Гена, потерял?
— Ничего я не терял. Мишкина, наверное, — я ещё дуюсь, отвернулся гордо.
— Не, Вер Михайловна, точно не моё. — Мишка рисует мне гору и рядом самолётики.
— Я деньги оставлю, а вы у других поспрашивайте. Пошла я. А не найдётся хозяин — накупите вкусненького.
Сидим кружком, спорим, на что деньги потратить.
— А давайте всем по шоколаду. — Серёжка облизывается, ёрзает от нетерпения.
— Слипнется, — не соглашается Мишка.
— Пирожное…
— Повторить? — злится Мишка.
— Мороженое, — не должен мне Мишка отказать.
— Давай! К твоим болячкам ещё ангину добавим.
Да, Мишка и правда взрослый: думает и говорит как они. И всего-то старше меня на два раза, а уже зануда. Со взрослыми не подружишь, они дружить не умеют, только поучать. Несчастливый я, нашёл друга, а он взял и вырос. Не хочу я ваше пирожное, мороженое. Ушёл, спрятался под одеяло: увидят слёзы, будут смеяться.
Мишка присел с краюшки, пытается приоткрыть одеяло, держу крепко.
— Нельзя тебе мороженое, Ген. Ты же взрослый, нельзя тебе сейчас мороженое.
— Уйди, я тебя не трогаю, и ты не тронь.
— Можешь дуться сколько хочешь, всё равно нельзя. — Мишка отпустил одеяло, ласкает меня через него.
— Берите, что хотите. — Вырос Мишка, совсем вырос. Но разве он виноват в этом? — Я всё съем, — стараюсь сказать повеселее.
Он же действительно невиноват, просто вырос. А я друга не брошу — даже взрослого.
СкрытьГлав 1 Музыка - повесть, 07.10.2012 09:52
Зазвонили в дверь, бегу открывать. Слышу чьё-то пыхтение. Рука держит ручку замка, а кто-то невидимый во мне шепчет: «Не открывай, это верно бандиты. Или, чего хуже, цыгане». Бандитов я не боюсь …почти. Наша комната стоит посередине коридора. От любой уличной двери далеко: вправо 120 шагов, влево 90. Нет, сам я не считал, ещё не умею — Федька-напротив (его комната как раз напротив нашей) посчитал. В нашем одноэтажном доме-бараке пять Федей (Федьков?) и, когда кто спросит: «Какой Федька?», я всегда отвечаю: «Да, Федька напротив». Так в памяти и отпечаталось, а вот фамилии не помню.
Про Федьку вспомнил, зачем? Ах, да, бабка у него: «Старая Карга». Неправильно, «Карга Старая». Именно так она называет себя. Всю свою одёжку подписывает хлоркой — КС, Колясова значит. Вот и фамилия Федькина вспомнилась. Взрослые зовут её иначе — Матрёна. Мы, детвора, по настроению: то Матрёнкой, то Матрёшкой. По старости глуховата, не различает. Но если услышит, кто назовёт её каргой, уши пообрывает даже взрослым, не то, что нам. Дверь в её комнату в маленьких дырочках от Федькиного поджига. Он сделал его сам: с дубовой рукояткой, ствол из стальной нержавеющей трубки. Но, это уже другая история. Вот через эти дырочки Матрёнка и узнает о жизни в доме. Тут никакой бандит не проскочит — бабка такой шум поднимет, не дай бог.
А вот цыгане запросто пройдут. Во-первых: живут они в соседнем доме, во-вторых: бабка давно собиралась меня им отдать. Только и слышно от неё: «Возьму и отдам тебя, фулюган (хулиган), цыганам. Будешь знать». Цыган я боюсь, сильно боюсь. Детей воруют постоянно, милиции не боятся. Что они с детьми делают? Не знаю, вот только в мешок засунут, унесут куда и — нет мальчишки — Митькой звали. И что-то не хочется мне узнавать…
— Да открывай, что ли. Сколько ждать, руки уж отсохли, — стучит ногой в дверь отец.
Я, счастливый (слава богу, не цыгане), с криком «Сейчас» открываю дверь. На пороге стоит папка, в руках огромная коробка — папку не видно.
— Музыка. Поворотись в сторонку, — ставит коробку на пол.
Музыка большая, пытаюсь сдвинуть: не выходит.
— Не тронь, малой ещё.
— Сам малой, — огрызаюсь незлобно, — больно надо.
Отец приносит кухонный нож, вскрывает упаковку сверху. Хочет разрезать с боков, смотрит на меня:
— Гараж нужен? — я не знаю о чём он, но на всякий случай киваю головой.
Отец достаёт через верх из коробки полированный ящик, ставит рядом со мной:
— Давай, открывай, хозя-и-н, — и показывает где открывать.
Я открываю верхнюю крышку, отец поддерживает, помогает. Внутри лежит что-то круглое, рядом белая полоска резинкой к боку музыки прижата. Отец пальцем раскручивает круглое:
— Проигрыватель называется, запомнил? Слушай дальше…
Снимает картонку:
— Смотри сюда, — наклоняет мою голову, — видишь?
— Ага, — я доволен не меньше папки.
Конечно, я давно понял, что это. У Федькиных родителях (другой Федька, не напротив) стоит такая радиола. Правда, она всегда накрыта треугольным вязаным платком, и, строго настрого запрещено её трогать. В тумбочке, на которой радиола, лежат грампластинки в ярких конвертах. Сперва мы честно не трогали радиолу, разве только приподнимем узорчатый платок. Развалимся на диване, разглядываем конверты. Не так конечно было: взрослые мальчишки разглядывали, мне показывали, да в руки не давали. «Малой ещё, уронишь». За свою жизнь я успел заиметь двух врагов: отцовский ремень и это дурацкое слово «Малой». С ремнём-то я ещё мог справиться: он побьёт меня вечером, отец ляжет спать, выкраду его (ремень конечно, не отца же) и давай над ним изгаляться, то затопчу, то об стену изобью. Пробовал и говорить с ним, и ругать — ничего не помогает. Так и остался он мне врагом. Да, совсем забыл о дяде Саше, похуже ремня будет. Лысый, толстый и маленького роста. Ну его, не про него рассказ. Слово «Малой» не только запрещает многое, так оно ещё и приклеилось ко мне обидной кличкой.
Радуюсь оттого, что у меня тоже есть радиола: ко мне будут все приходить, разглядывать. И пускай только попробуют назвать меня «Малой», фиг им, теперь я могу решать, кому можно трогать, а кому нет. И, если честно, я никогда не видел, что находится под крышкой.
Вот и получается, папку я совсем и не обманываю: радуюсь за себя, за папку. И, самое главное, папа хвастается передо мной: малым. Сейчас ни я, ни он не чувствуем разницы в возрасте — мы стали равными. Я простил ему и ремень, и постоянные нравоучения. Да всё простил, потому и бросился на шею. «Какой ты папка у меня хороший». «Глупенький, как мало тебе для счастья надо» — он обнимает меня - «Ты ещё посмотри, у него ручки есть — волны искать».
Ручки, волны искать, я у Федьки видел. Даже покрутил малость, пока мальчишки не видели. Отец Федьке устроил взбучку: «Я же помню, стрелку на Ленинград ставил, а тут Магадан». Дядя Лёша боялся «Магадана» даже больше, чем я цыган. Однажды во сне мне приснился «Магадан», действительно страшный — огромный чёрный многоголовый пёс, и явно цыганской породы. Не знаю, сколько голов, но пальцев на руках не хватило. А пальцами ног я не считал. Они были заняты и спасали меня бегством.
Всё хорошее проходит всегда быстро, и вот отец стоит у двери:
— Надо обмыть. Покупка серьёзная, никак нельзя. А то пропадёт зазря, — и мне строгим тоном, — смотри у меня.
— Приду, проверю — уже за дверью слышу его голос.
Взрослые всё же люди глупые, не всегда конечно, но всё же. Можно ведь просто сказать, «сынок, надо помочь». Я пойму и всё сделаю как надо, без всяких угроз и проверок.
Взрослая глупость подтвердилась ещё и в том, что отец на радостях не догадался, что я действительно малой и музыку мне никак не поднять. Я не знаю как до ванны-то дотащить, не то что в ванну.
Я сел на пол, стать думать-гадать. Позвать взрослых на помощь? Ещё чего! Мальчишек? Ни за что! Мне решать, кому трогать, а кому нет. А если позову их помогать — будет им фора. Да ещё и обзываться станут.
В доме тихо, кто на работе, кто гуляет. Только Славка ревёт, видно его сестрёнка мучает. Я вслушиваюсь, Славка чует что ли, ещё громче орёт. У меня ничего не выходит, но я же не реву. Слышу, Славка уже заливается смехом, забыл про слёзы. Обидно мне стало, ему хорошо, малолетка (третий годик), мне пятый. Плохой возраст, не нравится мне. Был бы как Славка, пожалели бы. Был бы как Федька, давно бы обмыл эту музыку. А сейчас — не то, не сё.
— Что за дурдом? — Матрёшка из своей конуры вышла — Потише там.
Слёзы у меня разом кончились. Вот Матрёшка, нет — Матрёна: молодец. Подсказала ненароком.
В прошлое лето решила Матрёна клумбу камнем огородить. Попросила дядю Колю камень привести. Дядя Коля работает на самосвале. Приедет на обед, оставит самосвал у барака, облепим бибику всей детворой. Кто в кузов, кто в кабину. Федька-напротив обзовёт меня малым, но сгонит малышню и посадит за баранку. «Только далеко не езжай. И смотри, больше ничего не трогай». Я клялся «не буду» и тут же хватался за все рычажки, нажимал на кнопочки. Дядя Коля придёт, поворчит для порядка, исправит нами накрученное, даст «газку» со стрельбой, окутает всех чёрным дымом и был таков. Бабку Матрёну он также не любит, вот и решил пошутить над старухой. Как и просила Матренка, привёз он ей камня, только крупного. Ему то что: поднял кузов, ссыпал, укатил.
Баба Матрёна ходит вокруг, голову почёсывает.
— Вот, сопляк, вычурился. Ничего, мы тебе спесь-то повышибаем.
Сидим мы в кустах, радуемся — есть на свете справедливость. Подвела нас Матрёна, выкрутилась. Принесла доску, стала ею камни двигать — да быстро. Подсунет под камень край доски, поднимет другой край — камень и сдвинулся. К вечеру получилась у неё клумба. Мы теперь часто на тех камнях сидим.
Так, дома доски есть, папа полы менять собрался. Но радиола не камень, не покувыркаешь. Да, чуть не забыл: на прошлой неделе соседи двигали комод, подложили по него мокрую тряпку. Ага, за работу.
Самое трудное — подложить эту проклятую тряпку. Кое как приподнял музыку, только тряпку засовывать, музыка палец придавила. Застрял палец, не могу вытащить. В голове сдавило, глаза слезой щиплет. Кое-как вытащил палец, плюнул на тряпку: какая разница, пусть полы будут мокрые. Сделал водяную дорожку до самой ванны.
На стене висят ходики с гирьками, я ещё не умею толком узнавать время. Но гирька опустилась на целую ладошку, когда доехали «мы» до ванной.
— Заслуженный перекур. — Папины слова, я ещё маленький курить. Так все говорят, и не курящие тоже.
Но, папироску я пробовал, дядя Саша (тот самый: маленький, толстый и лысый), уговорил. Обозвал салажонком, а если нет — докажи. И протягивает дымящую папироску. Не сумел я оправдаться, оказался салажонком, одной затяжки хватило и на слёзы, и на кашель. Голова закружилась, дядя Саша хохочет зло, даже не зло, противно как-то. Мало того, моим родителям наговорил, что курю я, и «если курит, то покупайте курево сами, я в снабженцы не устраивался». Слава богу, родители не поверили: в возрасте «не то не сё» никто не курит. А Толька-цыган не считается.
У Тольки волосы кудрявые, чёрные. Да и сам он чёрный. Однажды подошёл ко мне тихо сзади, схватил за плечи. Испугался я от неожиданности, оглянулся: всё, пришли цыгане за мной. Помню, полдвора прибежало на рёв. Успокаивали, домой отвели, а слёзы всё не кончаются. Даже Матрёшка прибежала. Мамка моя на неё накричала - «Все вы, со своими россказнями про цыган». Матрёшка посадила к себе на коленки:
— Глупенький, да никто тебя не украдёт.
Так я и поверил, это пока глупенький, не украдут. Папа говорит, со мной возни много. Подрасту, Матрёна сама и отведёт к цыганам.
Сижу на качели, скучаю. На ней ведь вдвоём кататься можно — доска с торчащими ножками посередине. Подходит Толька-цыган. Хотел я драпа дать, а он:
— Давай покатаемся.
— Давай, — боюсь, но вида не подаю (доска длинная, успею, если что).
Не зря боялся, наклонил он доску резко, я и скатись по ней, до самой железки.
— Че не ревёшь? Иди, ябедничай.
Да я бы заревел, только дыхание спёрло — не до рёва. Потом наревелся, когда отец драл за порванные штаны. А ябедничать не стал — думаю, вырасту, сам отомщу.
Теперь я понял, как мне музыку в ванну засунуть. Как Толька меня на качелях. Задрал доску на край ванны, получилась горка. Прокатился по ней сам, музыку пристроил. На тряпку, на мокрую. Ногами в стенку упираюсь, толкаю радиолу (наконец-то, а то музыка да музыка, как дитя малое). Не дотянул я, роста не хватило. Пришлось радиолу назад спускать. Принёс табуретку, положил у стенки. Снова музыку наверх толкаю, упираюсь в табуретку. Радиола лезет медленно, чувствую, не хватит мне сил, сам уже сползаю. Обнял доску крепко, музыка в голову опирается. Да ещё и диск крутится, папка ведь его раскрутил. Жалко, пластинки у нас нет, с музыкой веселей. Только шум и слышно. Стал я головой музыку толкать. Она возьми и застрянь, ну никак не двигается. Может сучок какой в доске? Поднимаю голову, ура! Музыка в стенку за ванной упёрлась. Слез с доски медленно. Лежит она на ванне, музыка на ней, я «перекуриваю». Диск ещё громче слышно, видно сильно раскрутился. Поднимаю крышку, стоит кругляшка на месте, только белая полоска отошла от края, на ней резинка порванная. «Рекордер, по нем звук идёт» — это Федька про полоску потом так скажет. Я не пойму откуда шум, оглядываюсь. Закрываю уши руками, всё равно шумит. Папа говорит: у меня в голове пусто — ветер гуляет. Я думал он так ругается, а сейчас понял, правду папка говорит — действительно пусто. Руки, ноги сразу устали, заболели. За себя обидно, за мамку с папкой — невезучие они — не того ребёнка взяли. Одна радость — цыгане не украдут — я им такой не нужен. Только радость какая-то невесёлая.
Слезами делу не поможешь — верно глупая пословица: наревешься вволю, не понарошку, и на душе полегчает. Только душа у меня неправильная. Мама говорит: душу не обманешь, она всё чует. Я наивно верю всем, а моя душа хоть бы раз подсказала… Матрёна про меня: душонка у пацана хилая. Папа: какая душа… поповские сказки. Не стал я реветь, иногда и глупости бывают верные: реви не реви, а музыку… Вот только слёзы сами — не реву, не плачу, а они всё равно льются и льются. И хочется мне стать любимым сыном, чтобы папа с мамой не жалели о выборе. И чтобы папка не ругал аиста, нашедшего меня в квашеной капусте.
Беда одна не приходит: в кране забулькало, загремело, упало несколько капель и всё — надо за водой к колодцу идти. На улице зима, холодно. Заглянул в окно — снег на солнышке блестит, аж в глаза «щиплется». Одеваться долго, колодец рядом, и совсем на улице кажется не холодно. Только валенки одеть надо, Матрёна говорит: «если ноги в тепле — не замёрзнешь».
Колодец у нас неглубокий, сам мерил. Так дело было:
Сижу на камнях у клумбы, облака разглядываю. Рядом Стёпка пристроился. Стёпка — дядька взрослый, только пришибленный малость. Так все говорят. Сперва я побаивался Стёпку, а потом сдружились. То костёр в степи разожжём, то землянку выроем. И никогда не называет меня малым. Обзовётся порой:
Генка пенка колбаса,
На верёвочке оса…
Получается у него совсем не обидно, не как у других.
— Смотри, лошадь паровоз тянет — Стёпка на облака показывает.
Лошадь я увидел сразу, а вот паровоз…
— Это не паровоз, это корова.
— Сказал …корова. — Стёпка отвернулся, сердится.
— А паровоз тут при чём? — моя очередь возмущаться.
Пока мы спорили, паровоз-корова изменился и превратился…
— Слон! — одновременно воскликнули мы.
— Жалко звёзд не видно, представляешь: из-под копыт коня сверкают звёзды, они ложатся на бока слонов… — тут Стёпка замолчал, задумался.
— Стёпа (ох, сколько раз я получал нагоняй от родителей за такую «фамильярность», ведь Стёпка всё-таки взрослый), мне мама рассказывала, что из глубоких колодцев звёзды видно даже днём.
Стёпка подошёл к колодцу, заглянул вниз:
— Давай попробуем.
— Давай.
— Тебя, Ген, в колодец опустим.
— Давай вместе Степ?
— И кто ж нас вытаскивать будет, а? — рассуждает Стёпка по-взрослому, — да и верёвка оборвётся.
Устроил он меня в ведро поудобней, стал опускать медленно.
— Видно?
— Пока нет, — кричу ему в ответ.
— Ты крикни, когда вода будет, а то утонешь.
Стёпка опустил ведро уже до воды, а звёзд не видно. Хоть и страшно, но хочется увидеть, хоть одну малюсенькую. Привстал я в ведре, молчу про воду, хоть и стою в ней по пояс.
— Верёвка кончилась. Что молчишь, звёзды разглядываешь?
— Ага — соврал я.
Колодец оказался неглубоким, но в этом не виноват ни я, ни Стёпка. Он наверху такой радостный, а я… ну её, эту правду.
Домой я попал быстро, наследил в общем коридоре мокрыми валенками (попробуйте сами донести ничего не пролив, если вы ростом с два ведра). Вода обжигает, пальцы не сгибаются. Подошёл к батареи, обнял руками — греюсь. Видно напутала Матрёна: был в валенках, а всё равно замёрз.
Поливаю радиолу из ковшика, протираю мочалкой, мою чисто-чисто. Придут мама с папой, всё готово и не пропадёт музыка зазря. Вот только устал я, не смогу радиолу обратно сразу отнести. Видимо, я действительно малой. Оставлю в ванной комнате, отдохну чуть-чуть и тогда…
Лёг на кровать, глаза слипаются, сам с собой разговариваю: «И совсем папка не глупенький. Он знал, что смогу, — я же не маленький».
Пришла Матрёна, сперва грозила пальцем, потом повела к цыганам. Толька-цыган сидит на троне, по сторонам сидят два Магадана. Матрёна за руку меня не держит — бери да беги. Но у меня сил нет: от страха, от жары.
— Забирай заморыша. — Матрёна толкает меня в спину.
Толька даже не смотрит в мою сторону, говорит сквозь зубы:
— Больно охота с салагами возиться.
Я конечно не хочу к цыганам, но и врать так нагло…
— Сам ты салага, тоже мне фон-барон нашёлся — от горшка два вершка.
Я даже не говорю — кричу. Иду к трону. Магаданы закрутили головами: вот-вот кинутся. Ну и пусть… Толька-цыган встал на трон, пыхтит папироской:
— Беги, ябедничай, пока мои псы тебя не сожрали.
Один Магадан схватил меня сзади (честное слово — не поворачивался я, чтобы убежать), кусает больно. Бью его по морде…
— Во как! Мамаша, подержите ручку ребёнку, а то не дай бог, иглу сломает.
Открываю глаза, вместо Магадана доктор в белом халате укол делает. Он заметил, как я проснулся, улыбается, говорит что-то. Только мне слышно плохо, в голове шумит, кто-то стучит молотками. Доктор задрожал, раздвоился, развалился на части и тут же исчез в темноте.
СкрытьЧёрточка - рассказ, 07.10.2012 09:50
Стал я с Мишкой спорить: каких людей больше, добрых или злых? Решили подсчитать, конечно же, взрослых. Считать мальчишек или девчонок казалось делом несерьёзным, бесполезным: на судьбы они никак не влияют. А вот взрослые — от них зависит Добрый Мир или Злой.
Дело важное, нужное, отнеслись к нему серьёзно.
У Мишки подъезд после ремонта: стены выкрашены яркой синей краской, потолок побелён начисто. Входная дверь раньше висела на одной петле — ни закрыть, ни открыть. Теперь висит надёжно, с пружиной. Сделано добрыми людьми? конечно. Только Васька с пятого этажа нацарапал на ней своё имя. Злой? Нет, мальчишки не злые, просто глупые.
Тётя Люба? — добрая, Мишкина соседка: угощает конфетами. Дядя Вася тоже добрый: как-то раз разрешил подержать пистолет: самый настоящий, милицейский.
А чтобы не сбиться со счёта, стали мы чёрточки на стене ставить. Следили строго: на одного человека одна чёрточка, даже если вспомнился за другое доброе дело. Первые чёрточки набрались быстро. Свежевыкрашенная стена в подъезде большая — на всех хватит, да ещё останется. Но, через час, вся стена оказалась занята. Мы, довольные, счастливые, отошли от стены — любуемся.
— Красиво. А ты говорил: злых больше, — улыбается Мишка ехидно.
— Не ври. Это ты говорил, — отвечаю ему лениво.
Слово за слово — поругались. Он дурак, я дурак: так дураками и разбежались. Пришёл я домой злой: всё, Мишка мне не друг. Не стал бы я чёрточку за него на стене ставить. Лгун он и обманщик. Злой он… ой, а как мы считали? У нас на стене только добрые люди отмечены. Недолго думая, бегу к Мишке.
— Миха! Мы же с тобой неправильно считали: про злых-то забыли. Пошли, досчитаем.
Спустились мы к стене: стоим, думаем. Отмечать «злых» на другой стене? — это на другом этаже. Тогда сравнивать неудобно.
— А давай старые чёрточки зачёркивать.
— Давай.
Первых пятерых злыдней вспомнили сразу: дядя Юра — старый ворчун, бьёт нас своей клюкой.
Однажды задремал он на скамейке, клюка рядом стоит. Спрятались мы в кустах: на клюку смотрим с обидой; часто нам достаётся от неё. Подкрались незаметно, утащили клюку: ждём, когда проснётся дядя Юра. Чем он нас теперь гонять будет?
Проехал Васькин мопед — без глушителя, кого хочешь разбудит. Дядя Юра встрепенулся, схватился было за клюку — да нет её. Осмотрелся он вокруг, под лавку — не нашёл. Заметил нас в кустах, улыбнулся:
— Пошутили?
— Нет, — отвечаем дружно.
— Дядя Юра, может дома забыли? — Мишка улыбается с невинным лицом. — Давайте я сбегаю.
— Да не хожу я без неё. Инвалид я, — задрожал голос у дяди Юры.
И всё же дал он ключи Мишке. Сидит покорно, ждёт гонца. Долго Мишки не было — слишком долго. Даже нашего терпения не хватило. Наконец вышел Мишка из подъезда — хмурый, серьёзный. Мы думали, скажет какую хохму. Нет, прошёл молча к тайнику, вытащил клюку и отдал дяде Юре. Старик обрадовался, схватился за неё двумя руками:
— Милая ты моя, одна ты у меня осталась. Помощница ты моя… — дядя Юра чуть не плачет. Встал он со скамьи и тяжёлой походкой пошёл домой.
— А ключи, дядя Юра! ключи забыли, — Мишка уже кричит, а дядя Юра не слышит. Так и положил Мишка ключи в карман старику.
Что Мишка увидел в квартире у дяди Юры, он нам так и не сказал. Обиделись мы на Мишку-предателя.
Вторым «плохишом» вспомнился Стёпка. Мы не знали, сколько ему лет, просто считали старым из-за лысины. Весь двор, и даже жена, всегда звали его Стёпкой.
У моего подъезда собираются бабки — поиграть в лото. Сидят, переругиваются незлобно, трясут мешочек, кричат цифры. Проходит мимо Стёпка:
— Привет девчонки!
Оторвутся старушки от игры, покрутят пальцем у виска:
— Дурак старый, а ума не нажил.
— Какой ум? Имя не заработал, одна кличка. Моего козла так звали. Барабанные палочки.
— Как?
— Да ни как, одиннадцать говорю… — уже забыла бабка про Стёпку, играет в лото.
Идёшь по дороге, задумаешься о чём, и, вдруг:
— Ух, ты, шпана малолетняя, — Стёпка ногами сучит, бьёт подковками по асфальту; руками, что крылами машет — пугает значит.
— Дядя Стёпка, Вы чего? — спросишь испугано, а он только смеётся.
Вот и вся обида от него. И всё же зачеркнули мы одну чёрточку от его имени.
Дядя Вася? Злой, хоть и милиционер. Разбил ветер окно в подъезде, а на утро обвинили меня с Мишкой. Думали: милиция поможет, докажет нашу невиновность. Не доказала. За всё отвечать надо — ещё чёрточка.
Шестая чёрточка появилась нечестно. Мишка просто молча перечеркнул «доброе».
— А это кто, Миш?
— Не твоё дело — личное, — Мишка смотрит исподлобья, ждёт.
— Плохой ты историк, Мишка. Если все так будут делать, Марь Петровна на уроках сказки рассказывать станет, а не историю. Здесь личного не надо.
— Зануда ты, — обиделся Мишка.
— А ты лгун.
Стали спорить, правда, недолго. Дядя Вася помешал. Нет, не он сам — его чёрточка. Дядя Вася добрый? Добрый — вот его чёрточка. А зачем в «злых» записали? Но ведь злой? Злой. Остановились мы, стали думать. Ничего в голову не приходит. Запутались окончательно: и тётя Люба злая, и другие не лучше.
Пока думали, подошла незаметно тётя Люба: увидела стену, ахнула, да хвать обоих за уши.
— Ах, негодники, люди ремонт сделали, а вы… — так и повела обоих к родителям.
Ночью мне спалось плохо: болело причинное место от наказания; в оборванных снах снился клоун. Подошёл он к нашей стене и своим кривым ногтем стал зачёркивать наши чёрточки. Зачёркивает быстро: была чёрточка — стал крест — могилка доброго дела.
Устал я от таких снов, лежу с открытыми глазами. Вдруг вспомнился Мишка и его чёрточка. Стал гадать, да так и уснул спокойным сном. Только под утро вернулся злой клоун:
— А мамку с папкой забыл? А?
Клоун хоть и злой, но был прав — я действительно ни разу не вспомнил о родителях. Только Мишка помнил: поставил чёрточку на стене — свою, личную.
Через два дня все «злые» чёрточки со стены исчезли. Я не стирал, Мишка тоже дал честное слово. Мишка конечно врун, но не злой — когда он вырастет, поставлю ему «добрую» чёрточку.
СкрытьЧеловек - Природа - стихотворение, 02.09.2012 21:57
Человек — Природа.
Сын топчет мать убогой силой
И с праведной целью
Жестокость не порок.
Он ищет мира, лязгая оружьем.
Он хочет жить и сеет смерть.
Он хочет есть, но травит Землю.
Он хочет пить, вливая яд.
Родник с душою чистой
Он топчет в грязь.
И, не веруя в Любовь
Плодит себя.
Всё то для цели лишь одной
— Главенствовать над миром.
Стать ему царём
В последнем миге.
Но тот предсмертный крик
Некому услышать.
СкрытьЯ ищу маму - рассказ, 25.06.2012 20:30
Я ищу маму, подарившую любовь.
Тогда я смогу уйти из мира холода и призраков.
Я не рождённый, нет — просто брошенный, отвергнутый! Почему? Зачем? Что мог натворить, нарушить? Каким заветом пренебрёг я?
Мир покоя, мир вечности; нет чувств в нём — чувств любви и горя, радости и разочарования. Мир пустоты?! Нет, нет! Просто сейчас, в изгнании из вечного небытия, говорит во мне злость и обида. Когда-то это был мой Мир, и, я не видел в нём изъяна. Да и не мог видеть. Это был Я. Тем миром, тем покоем, той мудростью, вечностью. Где не нужны чувства — слабости человечества.
Я не знал смерть, и никто никогда не рвал меня на кусочки, чтобы выгнать из чрева матери. Я не был плотью, потому и не ведал страха за неё. Я был Вечностью, и моя Душа не видела границ. Каждое движение частиц Мира — песчинки или одной из Вселенной — всё имело порядок и значение. И я владел силой движений и разумом.
Теперь я ничто. Простое ничто. Призрак. У меня нет плоти, но я помню о ней. Моя душа лишь никчёмный кусочек воздушной ваты, и носит её по чужим мирам.
Познавший Вечность, я знаю её и сейчас. Но уже другую: холодную, бездушную, наполненную хаосом и болью. Завистью и злом. Призраками ненависти и мщения.
В желании вкусить чувства захотелось мне стать человеком. Волей неведомых богов, зовом материнской любви нашёл мать. Вошёл в неё быстро и, также быстро был исторгнут ею. Я — сама Вечность, — познал Смерть. Всё является движением Жизни, всё закономерно и мудро. Но, став человеком, я забыл законы Смерти, потому и не принял, потому и пришла она болью и незаслуженностью.
Я звал маму на помощь. Ещё пытался спрятаться в её дальнем уголке. Я вспомнил всех богов, что знала она. Тогда я познал удивление… Почему, почему все боги молчали? Вся её плоть протестовала, старалась сохранить меня. Душа, растерзанная и испуганная, просила остановиться, не стать убийцей. Не услышала она своей души, не услышала меня.
Долго не мог я покинуть неверную мать, усыновившую иные души.
И как ненавидел я их.
И как завидовал им.
Мстил. Мстил больно, беспощадно. Да, я понимал: невиновны они, судьба. Но я силой зла вплёлся в их Жизнь. И бил по детям — мстил за предательство. И тем больнее было «матери».
Я старался быть честным. К каждому из детей приходил и рассказывал им. С ненавистью, болью. И эти чувства пугали их, заражали. Лоно, ставшее им домом, моими стараниями превращалось в тюрьму, в смертную камеру. Приходя во чрево незваным гостем, показывал хозяевам, как и где умирал я.
Глупец, я не знал что хотел, что творил. Я ничего не знал в этом мире, ничего…
Однажды я одержал победу?! Страшную, бесповоротную, Ту, что мучает меня, не пускает в старый добрый мир — мир вечного покоя… и может счастья?
Тогда я пережил разочарование. Освобождённое лоно испугало меня. Пустота, обёрнутая в несчастье, изгнала меня.
Человек! Кто, что ты? В чём твоя притягательность? Маленькая, хрупкая — вступила в бой с незримым противником. Столь могучей силой, что остановила меня. И не было в тебе зла. Лишь надежда и любовь. Но я ещё не знал любви, хотел её, но боялся. Боялся потерять обладающие силы. Силы зла, ненависти, боли, неверия. Я владел ими. И, я то радовался, то бежал от них. Вот когда я познал глупость. Человеческую глупость, нелогичность. Кирпичики чувств, столь слабые, но и столь прочные. Может потому любят боги людей?
Мои силы стали истекать, таять. Порой я цеплялся за них. Старался пополнить их воспоминаниями. Создавал плоть и рвал её на куски, как в прошлом делал врач. Я хотел уйти. Уйти в другую вселенную, в другие миры. Уйти от себя, от своей проклятой памяти. Но и мама помнила меня — даже в потере единственного рождённого.
Тогда я услышал Любовь. В горе и оплакивании ушедшего сына. В мольбах Богу вернуть потерянное. В разрушенной кладке чувств я познал сострадание, перешедшее в любовь.
Но я был слеп и не заметил прихода любви. И найдя Бога, я просил вернуть ей сына и подарить мне Любовь.
Лишь одно могло исполниться, и, я стал просить о возвращении сына. Бог мудр и не доверяет минутной слабости. Срок, данный им, не изменил моей просьбы.
Я вернулся к маме. Стал охранять её. Незримый, бесплотный, прижимался к её груди, ласкал её волосы, отпугивал беды. И часто плакал.
Да, я научился плакать. Дети, будущие дети… Ими заполнен весь Мир. Они врываются в незапертые двери, часто застают врасплох будущих родителей. Множество брошенных, ищущих, ушедших и заблудивших. И я с надеждой приходил ко всем детям. Я хотел, чтобы хоть один из них пришёл и стал любовью моей мамы. Но, то ли они уже были заняты, то ли я не мог объясниться — мама оставалась одинокой. И я плакал. Только во снах мамы мы были счастливы. Пробуждаясь, оставался её горем, её слезами.
Пришло время, — я стою пред Матерью Мира и жду её решения. Всё рассказал, с надеждой, что разозлившись, отбросит меня, оставит в мире пустоты. Неправда! Нет пустоты! У меня есть мама! Пусть нерожавшая меня, но научившая сострадать, победившая моё зло.
Или, быть может, вернут меня в мир Вечности, мир Покоя и Всезнания. Тогда я пойму цель своей смерти; потеряю все чувства и способность размышлять. Ведь зная всё нет необходимости думать. И… жить.
Туннель. Куда ведёт он меня? В мир, где я был вечен? Или снова в мир сна, видений, бесплотности?
Ярок свет туннеля. Бесконечно падение.
Что-то давит грудь.
Грудь?
У меня же нет…
Руки?
Они держат камень… Значит… я человек?!
Я будущий человек! Нет, не может быть.
Камень. Я жадно вглядываюсь в будущую жизнь. Рождение, смерть. Вся жизнь начертана в нём!
Имя. Такое знакомое… Имя моей матери, имя когда-то уже носившее меня. Я узнаю его и, — снова страх проснулся во мне.
Нет!
Камень расскажет. Но я боюсь. Я боюсь узнать свою смерть. Я боюсь своих воспоминаний и их повтора.
С разбуженной злостью кидаю его прочь.
— Мне больно.
— Извини, я не хотел.
Кто это? Мои родители? Моя мама? И мой камень бьёт её?
Нет!
Я хочу уйти. Я боюсь ненависти, что опять взрастает во мне, я боюсь зла, одолевшее меня. Бог исполнил своё обещание. Он вернул Ей сына, но какого? Ты караешь меня, но за что так жесток к Ней? Я простил Её, потому не может кары …
Прекрасное лицо склоняется надо мною, я слышу голос. Голос Любви, Голос Счастья. Я торопливо говорю что-то о любви, о её значении. Мать Мира улыбается мне, и я теперь ЗНАЮ почему.
— Загадай желание сынок. Оно обязательно исполнится.
Мать Мира приняла меня. Приняла сыном. Как прекрасно ЖИТЬ в мире нелогичности, в мире чувств. И я многое растерял из Бесконечности и Вечности.
— Я… я хочу, чтобы мама любила меня.
И снова туннель. Но теперь я знаю, куда ведёт он. К людям. К моей Маме. К моему Отцу.
Родненькие, миленькие, пожалуйста, не выгоняйте меня из вашего мира. Я буду, буду Вам сыном. Правда, правда…
Теперь у меня есть Имя. А значит, я не буду растерзан хирургом.
Лоно узнало меня, и это знание передалось матери. Плоть напряглась, приготовилась к бою.
А я раскрыл ещё призрачные ладошки, прижался к мамочке и шепчу ей на ушко слова Любви.
СкрытьДень рождения мамы - миниатюра, 25.06.2012 20:28
Мама. Папа. Гости. Дождь за окном.
19 сентября. Мне девять лет, у мамы день рождения. Огромный торт, свечи. Я пытаюсь сосчитать, Матрёна не разрешает — плохая примета. Мама улыбается, сажает меня в бережное кольцо рук:
— Не считай сынок, пусть это будет нашим маленьким секретом.
Гаснет свет, мама задувает свечи. Свечей много и они не хотят гаснуть. Тогда я соскакиваю с места, набираю побольше воздуха, наклоняюсь над тортом.
Но ведь так нечестно: маленькие огни схватились за мои волосы. Я забываю выдохнуть, задыхаюсь. Мама обхватывает мою голову, прячет на груди. Кто-то из гостей плескает «Буратино» на меня, на маму. От обиды на гостя за маму, выбрасываю воздух криком «моя мама». С криком приходят слёзы, но я лишь крепче обнимаю мокрое сокровище.
Погасли «свечи» в моих волосах, на кофточке мамы. Я не хочу торт, обидевший мою маму. Ведь он даже не исправился — продолжает гореть свечками.
— Плохая примета, — шепчет Матрёна.
Наверное, Добрый Бог не любит Бабку Матрёну, и в наказание одарил её видением плохого будущего.
Мама стрижёт мою голову, мажет маслом:
— Я тебя поцелую и всё заживёт. Правда, правда.
Мама плачет. Плачу и я. Мне страшно за маму, мама боится за меня.
— Осторожней, ему же больно, — не понимает отец.
Мама улыбается мне — у нас появилась тайна — только моя и мамина.
…
Десять лет. Когда тебе только двадцатый год, десять лет большой срок. Он бросил меня в горы, дал автомат и врагов. Я должен помочь затушить горящие свечки домов. Только я снова не справился: мой автомат и я лежим рядом никчёмно. Запах жжёных волос беспокоит мою память: торт, мамина кофточка с обгорелыми катушками. И как в детстве я снова плачу. Облака шепчутся: ему больно. Глупые, непонятливые — мне страшно за маму. За обман — я обещал вернуться.
Меня забирают санитары, я пытаюсь бесполезно вспомнить какой сегодня день, и только в вертушке пожилая санитарка почему-то шёпотом: 19 сентября. Матрёны голос: плохая примета. Неправда. Сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОЕЙ МАМЫ. Санитарка прижимает меня к груди:
— Я тебя поцелую и всё заживёт. Правда, правда. Добрый Бог одарил её маминой тайной.
СкрытьПисьмо - рассказ, 25.06.2012 20:20
Вечерний поезд неспешно подошёл к вокзалу. Вокзал встрепенулся боем часов, гамом встречающих, провожающих.
— Женщину с ребёнком пропустите.
— Где ребёнок? — недоумевает лысый толстяк.
— Глаза разуй…
— Так у меня пузо не меньше, меня пропустите, — шутливо толкается толстяк.
Маша виновато улыбается, толстяк шутливо кланяется, оттесняя народ. Тесно на вокзале Маше, её ребёнку. Она старается прикрыть его сумкой от нечаянного толчка — ребёнку не нравится, пытается оттолкнуть сумку пяточкой:
— Мне же больно, вертлячок, — Маша говорит шёпотом, прохожие останавливаются, обходят беременную.
— Давай, дочка, сумка тяжёлая, — снова соседка по купе рядом, забирает сумку, не ожидая согласия.
— Спасибо. Я сама, — Маша рада облегчению. — Нас… меня, муж встречает у выхода.
— Не поправляйся, всё правильно сказала, теперь ты не одна. А бывает и двойня.
Соседка завелась воспоминаниями, скорее пересказами одиноких и многодетных историй. Её речь — перебор нотного стана жизни: минор, мажор — всё смешалось в неведомом порядке. Ни темперамент монолога, ни Машина сумка и свой чемодан — ничто не замедляет говорящий людоход, прорезающий дорогу к выходу. Маша — маленький тяжёлый кораблик, качающий в людском потоке — старается держаться за спиной живого тарана.
— Вон твой, ждёт не дождётся, — соседка останавливает резко монолог и бег. — Удачи, дочка.
Идёт Маша по спящему городу одна: бывшая попутчица ошиблась, никто Машу не встретил. Проходя первые кварталы, Маша сначала злилась на мужа, на себя, даже ребёнку в чреве досталось. Правда, совсем немножко: почуяв настроение мамы, он успокоился быстро. Длинная дорога подменила обиду на усталость, монотонность пути сгладила острые углы чувств. Редкие прохожие недоумённо оглядываются на странную путницу — беременная женщина в такое время… одна. Маша улыбается им, ещё надеясь узнать в них запоздалого встречающего мужа. Обознавшись, тихим голосом оправдывается — перед собой, перед ребёнком:
— Он про нас не забыл. Может дату перепутал, может телеграмма… Бывает, на работе что не так. Ты, глупышечка, не волнуйся…
Волшебство оправдания теряло силу, Маша всё реже вглядывалась в прохожих и вскоре надежда покинула её. Присев на лавочку, она заплакала. Рассыпался мир капельками слёз.
Люди верят в чудеса, чудеса верят людям и приходят к ним. Сквозь пелену слёз, Маша узнала свой дом — усталость чувств и радость увиденного забыли пройденный путь и… лавочка казалась рядом с домом прекрасным волшебством. Маша, совершенно забыв о сумке, забежала в дом.
— Вот мы и пришли, — Маша срывает платок, улыбается встречающей Полине, — не ждали?
— Да как не ждали? — Полина старается говорить твёрдо, без дрожи в голосе. — Телеграмму получили…
Заметив отсутствие сумки, Полина обрадовалась возможности сменить тему:
— Багаж на вокзале оставила?
— Там. На лавочке. Я сейчас сбегаю.
Когда Маша вернулась, её встречал весь этаж общежития, Полина умудрилась разбудить всех: соседи, кто зевая, кто переминаясь с ноги на ногу, смотрят на Машу выжидающе. Маша поверила было на мгновение радости встречи, но вдруг встревожилось сердце:
— Почему вы молчите…
— Ушёл твой, — Полина говорит громко, ожидая поддержки соседей, — собрал вещи…
— Недели две, — перебивает другой сосед, — вот, письмецо оставил.
— Ты поплачь, дочка, поплачь, — Полина подхватывает ослабевшую Машу, — оно легче станет.
Утро на общей кухне сегодня бурное, разговорчивое. Будто не хватило двухнедельных пересудов после ухода «кобеля» от Маши. Имя её мужа напрочь забылось, заменилось: первой начала Полина, потом остальные подхватили кличку. Мужская половина поначалу пыталась называть его по имени, да как удержишься от разгневанных баб - «сам кобель», «одним миром мазаны», «все вы…» — спорить себе дороже.
Начали говорить шёпотом — не приведи господи, Маша услышит. Да разве уследишь — всё громче; перебивая и споря; гремя посудой; покрикивая на мужей; собирая детей в школу…
Дед Юрий подойдёт к одним, другим — слово вставить, поговорить: «я, оно ведь, говорю», да никто не слышит его, а то и гонят прочь. Надоело ему маяться, схватил кастрюлю, саданул об пол:
— Затараторили, дуры. У девки беда случилась, а они базар устроили…
— Ишь, распетушился, — Полина оттесняет деда к стене. — Я, между прочим, Машке слёзы до утра утирала, пока ты дрых.
Не сдаётся дед:
— Гам подняли, разбудите ведь…
— Громыхать посудой — не разбудишь, а поговорить ни-ни.
— А что, бабы, может намылить ему шею?
Видит дед — намылят. Ох, и оторвутся бабы на нём за все обиды.
— Совсем что ли сдурели, — осторожно протиснулся промеж разъярённых женщин дед в коридор, осмелел там малость. — Я ж про письмецо хотел напомнить. Отдать надо.
— Вот и отдай.
— Боюсь, я к женским слезам непривычный.
— Ангелочек нашёлся, можно подумать, жену не доводил.
Когда спрятался Дед Юрий за своей дверью, совсем осмелел:
— Ты бы у меня, Полинка, не просыхала! — захлопнул дверь, подождал, когда прекратят стучать разгневанные бабы. — А письмо отдай. Я его на твоей кастрюльке оставил.
Забот и так полный рот, а тут ещё письмо — будь оно неладно. Лежит конверт, дразнит всех.
— Ты у нас, Поля, главная — открывай.
— Умная какая, читать все будем, а грех на меня свалим.
— Какой грех? Мы же не ради любопытства — Маше поможем.
— Да и кто узнает, заклеим обратно. Я мужа письма всегда читаю.
— И как, помогает?
— Мне помогает.
— А мужу?
Кухня после «битвы» с дедом быстро опустела. Остались только три соседки: сидят за столом, смотрят на конверт. Он лежит, паразит, манит отогнутым краешком клапана.
— Заклеен?
— Заклеен.
— Кобель. Всё тайком, не по-человечески.
— Любонька, солнышко ясное, — Полина схватила письмо: вертит, разглядывает. — Любка! Оглохла что ли, мать зовёт.
На кухню заглядывает девчушка лет двенадцати:
— Звала, мам?
— Принеси конверт из серванта, да и ножницы глянь, — Полина оборачивается гордо к соседкам: — Конверт-то неподписанный, своим запечатаем.
— И то верно.
— Мам, а ножницы зачем?
— А сама не догадаешься, да? — Полина руки в бока, мнёт конверт ненароком. — С матерью спорить. Бегом за ножницами.
— Я вам его и так открою.
— На-а! — рассердилась Полина, тычет письмо дочке.
Девчушка взяла письмо, улыбнулась женщинам, повернулась на каблучках, вышла из кухни.
— Куда? Здесь открывай…
Застучали каблучки, открылась дверь:
— Чужие письма, мама, читать нельзя, — закрылась дверь.
— Против матери пошла. Вы только посмотрите, бабы, нарожала на свою голову. — Полина вышла в коридор, ищет взглядом нужную дверь.
— Юркина, по скрипу знаю, — соседки вышли следом.
Действительно, слышится из комнаты деда Юрия девичий смех.
— Ты, Полина, так на конвертах разоришься, — смеётся и дед Юрий. — Письмецо-то твоим конвертом запечатано. Во как.
— Не поняла…
— Что тут не понять, Павел мне письмо на листочке отдал, Люба конверт принесла. Вместе и запечатали.
— Дурак старый, зачем?
— От любопытства.
— Любка! Выходи!
Полина покраснела вдруг, надула щёки, прикрыла рот ладонью, кинулась на кухню. Соседки следом испугано: «довела мать».
— Дверь, дверь закройте, — шепчет Полина через ладонь.
Закрыли соседки кухонную дверь, хлопочут вокруг Полины. Не смогла она удержаться, рассмеялась. Старается удержать смех ладонями, выходит плохо, укрыла лицо занавеской — захохотала во весь голос.
— Поля, водички попей, — кто-то протягивает стакан, говорит другой: — Истерика.
— Да что же вы мне воду суёте, — Полина отталкивает стакан, — сами вы истерички.
Теперь и соседки заулыбались.
— Умишка с кулачок, а провела нас, старых да опытных, — вздохнула Полина облегчённо. — А всё же умная у меня дочка, спасла от греха. Что молчите?
— Странная ты Полина. Если бы моя так учудила…
— И я бы своему все уши…
Полина дождалась ухода разочарованных соседок, подошла к двери деда Юрия:
— Солнышко?
— Слушаю, Полинушка, — шепчет дед Юрий.
— Тоже мне солнышко нашёлся, Любку позови, — Полина пытается не рассмеяться.
— Что, мам?
— Не мамкай, письмо отдавать будешь, меня позови. Мало ли что, поняла?
— Хорошо, мамочка.
— А ещё лучше, с дедом сходи, оно ему полезно будет — на слёзы женские посмотреть.
К полудню зашумели соседки готовкой на кухне. Ведут разговоры сторонние, ни слова о Маше — нелегко на сердце: примеряют Машину беду на себе. Утрут тайком слезу, посмотрят на Полину.
— Да что же вы мне всю душу теребите, — не выдержала Полина, скинула халат, — пойду за ней. Только слёзы свои утрите, их и без вас хватает.
Полина идёт медленно, надеясь на соседок, — страшно одной, оглядывается, может пойдёт ещё кто. Не идут соседки, столпились у кухни.
— Юра!
— Иду, Поля, иду.
Когда Полина Машу под утро спать укладывала, подложила бумагу под запор: «мало ли что, пусть дверь прикрытой останется». Юрий держит Полину за руку, — открывают вдвоём, заходят вдвоём. Маша лежит около кровати, в руке край стянутого одеяла.
Не помнит Полина, что было дальше. Не помнит своего крика, бега соседей — всё кануло, исчезло от страха и боли.
— Мамочка, милая, — очнулась Полина, видит плачущую дочку, — мамочка, миленькая, — возвращается память со странным спокойствием.
— Неотложку вызвали?
— Вызвала…
— Вот и умница. Ты своего хахаля то брось, видишь, что они с нами делают.
— Мама…
— А что мама, много вы нас послушались — травитесь потом.
Седой врач осматривает Машу; второй, молодой, оглядывается, ищет что-то:
— Чем отравилась?
— Да кто ж его знает, — дед Юрий старается держаться, весь в поту.
— Забираем её, — говорит седой врач.
— Куда? В стационар? — спрашивает молодой.
— Зачем? В роддом, — врач говорит нарочито громко, с улыбкой: — Кто родственники?
— Я! — Полина боится, что не поверят, добавляет: — Дочка…
— Ну, конечно, да ещё и младшая, — усмехается седой врач, понял про обман, глядя на Любу. — Тогда собирайтесь, мамаша.
Вернулась Полина вечером. Отмахнулась от допытывающих соседей, прошла к деду Юрию:
— Ты с письмом не торопись. Пусть сначала оправится.
— Отдавать-то некому.
— Скоро, сказали, выпишут. Недельку, две, попридержи, а там видно будет.
— А если Машка спросит?
— Не Машка, а Маша, — озлилась Полина, хлопнула, уходя, дверью.
Тут же приоткрыла вновь:
— Всё у неё, Юр, хорошо.
Мужская половина общежития ходит хмурая, недовольная. Жёны ополчились, по любому пустяку шумят. У мужиков вопросов много: «мы то здесь причём?», «так отравилась или нет?», «что Пашка в письме написал?». К деду Юрию заходят тайком, ищут ответы. Дед Юрий пытается ответить: причём? — у жены своей спроси; отравилась? — бабы говорят, будто бы по женской линии, плюс нервы; что в письме? — понятное дело: прощения просит, про любовь новую…, наверное, не читал ведь. Старается Юрий всем ответить, только Любе не смог:
Прибежала она вечером, долго молчала, не выдержала, заговорила:
— Деда Юрий, один вопрос, можно?
И, не дожидаясь ответа:
— Почему люди расходятся, куда любовь девается, а любовь — это зло?
Хотел Юрий отшутиться, повернулся к Любе:
— Один вопр… — увидев её глаза, осёкся, понял, что испугалась девчонка, боится любви.
— Почему вы молчите…
Понимает дед Юрий, промолчишь — прорастёт у Любы зёрнышко страха. И сказать ничего не может…
— Тогда я письмо у Маши попрошу.
— Зачем, Люба?
— Раз вы все молчите.
— …
— Он же должен объясниться.
Дед Юрий по простодушию считает себя человеком опытным в житейских делах. Всякого в жизни повидал: и счастья, и горя. Сердце корочкой покрылось — не пробьёшь. И всё бы хорошо, только история с Машей, да ещё Люба с вопросами. «Вон как девчонка напугана, далась им эта любовь, одна беда только с ней. Двенадцать годков — любовь ей подавай, да ещё неразлучную. Да, натворил ты Пашка дел: Машку в больницу уложил; Любка любви страшится, прогнала своего пацана. Такая любовь точно до гроба…, типун мне на язык». Ноет сердце у деда, за Машу, за Любу, ещё письмо это. Почему-то кажется деду — отдай он письмо — будто сам Машу бросил. И не отдай — опять, получается, бросил. «Пашка хитрый: сбежал, пока жена в отъезде, мне сбежать? — отдать письмо Полине. От Маши убежал — Полину бросил».
— Вы, папаша, не переживайте. Всё у Маши хорошо: полежит на «сохранении» недельку, и вы отдохнёте, и больная поправится.
Дед Юрий робеет, не знает как разговор о «главном» начать, только и хватило смелости конверт из кармана вытащить.
— А вот это вы зря, папаша. Мне ваши деньги ни к чему. Уберите!
Полегчало у Юрия на сердце: «Слава богу, доктор сам о конверте заговорил».
Стал дед Юрий рассказывать о Маше; о сволочи Пашке; о злосчастном письме; снова про Машу; про письмо, доведшее Машу до больницы. Врач старается слушать внимательно, отвлекается только на пуговицу своего халата — дед Юрий крутит её от волнения. Наконец, оторвалась пуговица, дед Юрий растерялся — остановился.
— Я понял, отец. И вы хотите, чтобы я письмо отдал?
— Конечно же. У вас работа такая…
— Какая, почтальон?
— Извини, добрый человек, с твоей профессией как-то привычнее людям больно делать.
— У тебя, отец, сейчас не хуже получается.
— Боюсь я. Махонькая она. А я с таким письмом. Мало ли что, — при медицине оно может легче ей будет.
— Хорошо, давайте письмо.
Далась ему эта пуговица. Только отвлечётся на больных, забылась она, потерялась в кармане. Выйдет на лестницу покурить, вместо сигарет поймает рука пуговицу. Переложил в нагрудный кармашек. Грустно на душе, пусто.
— Андрей Николаевич, у вас пуговка оторвалась, — заметила сестра в ординарной.
— Дура!
Растерялась сестра, кинулась прочь.
— Елена Михайловна, — пытается удержать он сестру. — Лена! Да остановитесь же.
— Чурбан, чурбан, чурбан, — не удержала слёз, вырывается из объятий обидчика.
— Леночка, я не хотел вас обидеть. Я пуговицу обозвал, не вас.
— Врёте вы всё.
— И совсем не вру, — Андрей Николаевич улыбается, вытирает слёзы с её мокрых щёк. — У вас новая причёска.
— Новая…, вторая неделя пошла, а вы только заметили, — и хочется ей остановить время, хоть на минуточку.
Скрыть